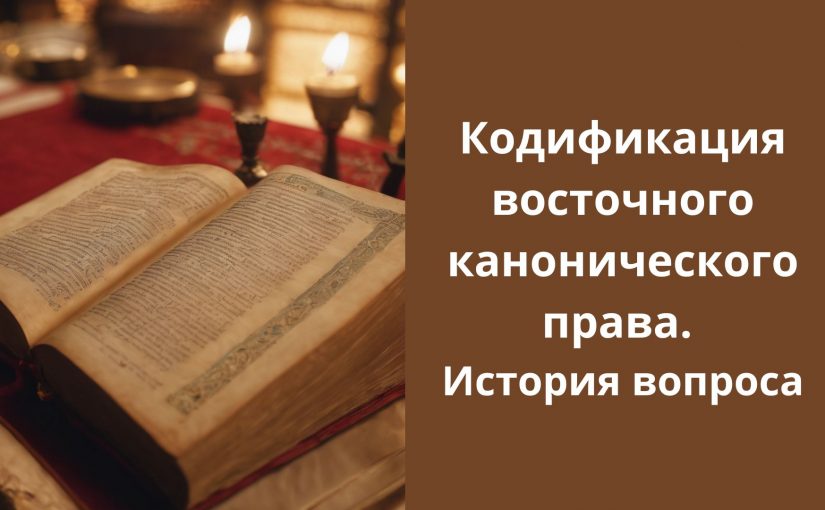- Cleri Sanctitati (CS): 558 канонов об обрядах и лицах, провозглашенные 2 июня 1957 года и получившие юридическую силу 25 марта 1958 года.
- AAS 49 (1957) 433-603.
- LA
Category: Katholisches Kirchenrecht
Postquam Apostolicis Litteris (PAL)
- Postquam Apostolicis Litteris (PAL): 325 канонов о церковном и светском имуществе, а также определения терминов, провозглашенные 9 февраля 1952 года и вступившие в силу закона 21 ноября 1952 года;
- AAS 44 (1952) 65-152
- PIUS PP. XII. MOTU PROPRIO POSTQUAM APOSTOLICIS. DE RELIGIOSIS, DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS ET DE VERBORUM SIGNIFICATIONE PRO ECCLESIIS ORIENTALIBUS
- LA
m.p. Sollicitudinem Nostram
- Sollicitudinem Nostram (SN): 576 канонов о процедуре, провозглашенные 6 января 1950 года и вступившие в силу закона 6 января 1951 года;
- PIUS PP. XII MOTU PROPRIO DATAE SOLLICITUDINEM NOSTRAM. DE IUDICIIS PRO ECCLESIA ORIENTALI
- AAS 42 (1950) 5-20
- LA
m.p. Crebrae Allatae
- Crebrae Allatae (CA): 131 канон о супружестве, провозглашенный 22 февраля 1949 года и вступивший в силу закона 2 мая 1949 года;
- PIUS PP. XII MOTU PROPRIO CREBRAE ALLATAE SUNT. DE DISCIPLINA SACRAMENTI MATRIMONII PRO ECCLESIA ORIENTALI
- AAS XXXXI [1949] 89-117
- LA
Энциклика Arduum sane munus
На протяжении I Ватиканского Собора (1869-1870) проводились дискуссии по поводу того, что делать с огромным количеством законов, накопившихся за прошедшие пятнадцать веков. Папа Пий X (1909-1914), энцикликой Arduum sane munus, провозгласил, что начинается выполнение трудной задачи кодификации законов Церкви.
Текст: LA
Кодификация восточного канонического права. История вопроса
Папа Иоанн XXIII созвал II Ватиканский Собор, чтобы обсудить роль Католической Церкви в современном мире, которая требовала общего обновления Церкви. Одним из аспектов такого обновления была каноническая дисциплина Церкви, как латинская, так и восточная. В этом исследовании мы кратко проследим историю кодификации права Восточных Католических Церквей.
Уже до VII Вселенского Собора в Никее (787), Церковь обладала общим фондом из 765 канонов, который создали Вселенские и Поместные соборы, а также Отцы Церкви, и которые были одобрены первым каноном самого II Никейского Собора. Хотя эти каноны объединены в канонических сборниках, они никоим образом не были систематизированы.
Столетия законодательной деятельности любого общества, будь то церковного или гражданского, вполне естественно приводят к появлению огромного корпуса законов, который, если его не систематизировать, может стать трудным в использовании и содержать устаревшие и даже противоречивые элементы. Следствием такой ситуации является неуверенность в правосильности законов, произвольность в управлении и постоянное ощущение опасности. Поэтому, наряду с законодательной деятельностью, необходимо стремление организовать свод законов, сделать его доступным и помогать юристам и экспертам в его осмыслении и толковании.
Одним из способов систематического упорядочения законов является кодификация. Слово кодекс имеет латинское происхождение, и первоначально им называли деревянные дощечки, покрытые воском (впоследствии их заменил пергамент или папирус), которые использовались для письма. В современной юридической терминологии кодексом называют свод законов, систематически упорядоченных согласно неизменной системе принципов. Такой кодекс устраняет, прежде всего, все противоречивое и устаревшее законодательство и обычно добавляет свежо провозглашенные законы. Кодекс может охватывать все сферы законодательства для определенного общества или ограничиваться одной как, например, гражданское, торговое, уголовное или морское право.
В течение IV века секулярная имперская власть переняла роль куратора Церкви и издавала законы, которые были, по сути, церковными по своей природе. Nomocanon (νόμος – “право”, и κανόν – “правило”), сборник как светского, так и церковного права, сформировался в результате тесного объединения Церкви и государства.
В светской сфере интерес к кодификации законодательства возрос в конце XVIII века, во времена Просвещения. Европейская секулярная власть усвоила философский принцип Просвещения, что государство может быть построено на принципах разума и, что юридическая система также должна быть всесторонней, рациональной и систематической, то есть кодифицированной. Кодификация законодательства была не просто сборником законов, а новой формулировкой их согласно определенным принципам, соответствующим ментальности и потребностям времени.
Первые гражданские современные кодексы были составлены в Пруссии, Австрии и Франции. Кодификация французского законодательства (1804) послужила образцом для большинства кодексов вне англо-американской сферы влияния. Позднее современные кодексы, такие как Германский гражданский кодекс (1900) и Швейцарский гражданский кодекс (1912), которые произошли от французской наполеоновской модели, стали примерами процесса кодификации в XX веке.
Очевидные преимущества кодексов для светского общества не остались незамеченными для церковных властей. На протяжении I Ватиканского Собора (1869-1870) проводились дискуссии по поводу того, что делать с огромным количеством законов, накопившихся за прошедшие пятнадцать веков. Папа Пий X (1909-1914), энцикликой Arduum sane munus, провозгласил, что начинается выполнение трудной задачи кодификации законов Церкви.
Codex Iuris Canonici, который создала небольшая группа известных канонистов вроде Франца Вернца, возглавляемая кардиналом Петр Гаспари, был провозглашен папой Бенедиктом XV (1914-1922) 27 мая 1917 года и приобрел силу закона 19 мая 1918 года.
1. Codex Iuris Canonici Orientalis
Уже в 1862 году папа Пий IX (1846-1878) основал специальный отдел Конгрегации по делам распространения веры, который получил название “Конгрегация по делам распространения веры для восточного обряда”. Отдел обсуждал преимущества кодификации для Восточных Церквей. Предварительно это ведомство начало создавать сборник канонов Восточных Церквей.
1.1. Предварительная подготовка к кодификации
На протяжении предыдущей фазы I Ватиканского Собора, в письменных мнениях, которые подали восточные католические патриархи и епископы, высказывалась настоятельная потребность в корпусе законов, которые бы действовали во всех Восточных Католических Церквах. Эта потребность также обсуждалась в Подготовительном Совете для миссий и Церквей восточного обряда, который отстаивал позицию в пользу единого кодекса для всей Католической Церкви. Предложение, однако, столкнулось с серьезным сопротивлением участников собора. К сожалению, желание получить полный кодекс оставалось неосуществленным в течение некоторого времени.
Это не означало, что потребность в систематизированных восточных законодательных текстах игнорировалась. Различные Восточные Католические Церкви провели ряд соборов:
- Шарфезский собор Сирийской Церкви (1888),
- Львовский собор русинов (1891),
- два Алба-Юлийских собора румын (1882 и 1990),
- Александрийский собор Коптской Церкви (1898)
- и Римский собор Армянской Церкви (1911).
До начала XX века свод законов Восточных Католических Церквей охватывал древние каноны и сборники, акты Римского Апостольского Престола, синодальное законодательство тех же Церквей (один из которых был специально одобрен Римским Апостольским Престолом, а именно, Ливанский Собор Маронитской Церкви 1736 года), обычаи, патриаршие законы, эдикты светской власти относительно церковных дел, епископские уставы и конституции, а также правила религиозных институтов. После провозглашения CIC-1917 восточные католические иерархии вскоре выразили желание подобной кодификации законодательства своих Церквей.
25 июля 1927 года, на пленарном собрании Конгрегации по делам Восточных Церквей, проект кодификации восточного канонического права был предложен официально, единогласно принят и передан на рассмотрение Папе Пию XI (1922-1939) С августа 1927 года. В 1929 году Конгрегация направила циркуляр восточным католическим патриархам, в котором указала, что папа обратил внимание на желание патриархов кодифицировать восточное каноническое право и решил удовлетворить их просьбу. Патриархам предложили посоветоваться со своими епископами и другими лицами в своих Церквах и представить их предложения по выполнению проекта. Им также дали указание назначить квалифицированного священника, который будет участвовать в проекте.
Предыдущий Главный Совет с папой во главе и членами кардиналом Петром Гаспари, кардиналом Луиджи Синчеро и сирийским Патриархом Рахмани был основан в 1927 году. 27 апреля 1929 года кардинал Бонавентура Черетти заменил Патриарха Рахмани из-за состояния здоровья последнего. Совет консультантов, в который входили три эксперта канонического права, присоединился к этому Совету. 4 июля 1929 года Совет собрался на пленарную сессию, чтобы проанализировать ответы патриархов и определить наилучший способ выполнения проекта кодификации. Убедившись, что ответы патриархов были единодушными в своей поддержке этой идеи, Совет направил свои предложения относительно выполнения проекта Римскому Архиерею для принятия окончательного решения.
29 ноября 1929 года папа Пий XI создал Комиссию кардиналов для подготовки восточной кодификации под руководством кардинала Петра Гаспари. Чтобы помочь кардиналам в подготовительной работе, была создана Коллегия делегатов, в которую входило четырнадцать священников, которые представляли различные Церкви и были назначены своими синодами и соответствующими властями. Четыре священника вошли в состав Коллегии как религиозные эксперты. Была также учреждена Коллегия советников, в которую входили двенадцать экспертов по источникам восточного канонического права. Она должна была собрать и опубликовать канонические источники. Коллегия функционировала с 15 сентября 1930 года до 6 августа 1936 года и подготовила девять проектов (schemata), которые были распространены среди различных иерархов, ведомств и университетов с тем, чтобы они высказали свое мнение.
С самого начала было много дискуссий относительно того, должен ли общий кодекс для Востока и Запада католического сообщества, то есть, Codex Iuris Canonici Universalis, стать целью работы. В конце концов, от этой идеи отказались, однако CIC1917 неизбежно должен был послужить источником вдохновения и основой для кодификации восточного канонического права.
Следует упомянуть Акакия Куссу, Базилиана Гиеромонка из Алеппо и профессора восточного канонического права в Institutum Utriusque Iuris Латеранского Университета, который исполнял обязанности секретаря PCCOR. Позже он получил звание кардинала; его преемником стал Отец Дэниел Фалтин, Ч.Б.М., Конв., исполнявший обязанности “ассистента” того же совета.
1.2. Редакционный Совет (PCCOR)
В 1935 году Пий XI основал Pontificia Commissio Codicis Orientalis Redigendo (PCCOR: Папский Совет по редакции восточного канонического права), которому было доверено задание пересмотра schemata, учитывая комментарии, которые подали различные консультационные органы. После более чем двенадцатилетней работы, в марте 1948 года, PCCOR представил папе Пию XII (1939-1958) полный проект Codex Iuris Canonici Orientalis (CICO), состоящий из 2666 канонов почти в окончательной форме. Поскольку некоторые Церкви на Ближнем Востоке испытывали острую потребность в новом законодательстве, папа провозгласил четыре части проекта в форме “motu proprio” (MP: буквально – “по собственной инициативе”).
1.3. Структура дособорного кодекса (СІСО)
К четырем частям Проекта, которые провозгласил папа Пий XII и, которые составляли неполный, дособорный восточный Кодекс, Codex Iuris Canonici Orientalis (CICO: Кодекс Восточного Канонического Права), принадлежали дальнейшие MP (motu proprio):
(1) Crebrae Allatae (CA): 131 канон о супружестве, провозглашенный 22 февраля 1949 года и вступивший в силу закона 2 мая 1949 года;
(2) Sollicitudinem Nostram (SN): 576 канонов о процедуре, провозглашенные 6 января 1950 года и вступившие в силу закона 6 января 1951 года;
(3) Postquam Apostolicis Litteris (PAL): 325 канонов о церковном и светском имуществе, а также определения терминов, провозглашенные 9 февраля 1952 года и вступившие в силу закона 21 ноября 1952 года;
(4) Cleri Sanctitati (CS): 558 канонов об обрядах и лицах, провозглашенные 2 июня 1957 года и получившие юридическую силу 25 марта 1958 года.
Хотя Восточные Католические Церкви в целом хорошо восприняли эти четыре MP, определенные канонические нормы, особенно по Cleri Sanctitati вызвали серьезные предостережения со стороны патриархов, которые чувствовали, что их полномочия неоправданно ограничены, особенно в части требований получения разрешения или одобрения Римского Апостольского Престола даже в относительно незначительных деловых вопросах, что практически сводило на нет принципы автономии и субсидиарности.
25 января 1959 года папа Иоанн XXIII объявил о созыве собора Римской епархии и вселенского собора для Католической Церкви. Папа отметил, что одним из аспектов общей программы aggiornamento (осовременивания) Церкви будет обновление ее канонической дисциплины. Он специально упомянул дальнейшее провозглашение CICO, которое должно было стать предвестником программы церковного обновления. Однако позже стало очевидным, что это общее право для Восточных Католических Церквей также потребует адаптации к современности. Папа, таким образом, отложил запланированное провозглашение канонов о Таинствах и приостановил весь проект до завершения собора. Тем временем, PCCOR продолжала работу по сбору источников и предоставлению достоверных толкований провозглашенных канонов.
В упомянутых выше четырех MP из всех 2666 канонов было провозглашено только 1574. Остальные неутвержденные тексты остались в архивах и выполнили после собора роль textus initialis (TI: начальный текст), которые могут пригодиться для новой кодификации.
1.4. Изменения в CICO после II Ватиканского Собора
21 ноября 1964 года II Ватиканский Собор принял три очень важных документа:
- Догматическую конституцию о Церкви, Lumen Gentium;
- Декрет об Экуменизме, Unitatis Redintegratio; и
- Декрет о Восточных Католических Церквах, Orientalium Ecclesiarum.
Поскольку этот последний декрет освещал многие дисциплинарные вопросы, часть которых делала нормы CICO устаревшими, его можно справедливо считать первоначальным кодексом, первым шагом к соборной канонической реформе Восточных Католических Церквей. Для большинства из этих Церквей декрет приобрел силу закона 22 января 1965 года. Учитывая извещение, которое позволяло патриархам сокращать или продлевать vacatio, было несколько исключений для даты, когда декрет вступил в силу для определенных общин.
2. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Об истории послесоборной или Второй кодификации общего канонического законодательства для Восточных Католических Церквей в сжатой форме рассказывали несколько авторов (см. библиографию). В этом комментарии мы ограничимся ее самыми яркими чертами.
2.1. Комиссия по пересмотру
10 июня 1972 года папа Павел VI основал Папский Совет по пересмотру кодекса восточного канонического права (PCCICOR), состоявший из членов (сначала их было 25, а впоследствии их количество возросло до 29), которые имели право решающего голоса, и 70 советников, в основном, епископов и пресвитеров Восточных Церквей, а также священнослужителей и светских ученых Латинской Церкви, которые были экспертами по восточному каноническому праву. В духе экуменизма также были приглашены в качестве наблюдателей, восточные некатолики. Они выполняли роль консультантов (но без права голоса в исследовательских группах) во время процесса пересмотра.
Президентом PCCICOR был назначен кардинал Иосиф Парекаттил (Joseph Parecattil) из Сиро-Малабарской Церкви, который занимал эту должность до дня своей смерти в 1987 году. После этой даты должность президента оставалась вакантной. Дальнейшими вице-президентами Совета были Игнатий Климент Мензурати (1972-1977), Мирослав Стефан Марусин (1977-1982) и Эмлий Эйд (1982-1990). Иван Жужек, Т. И., работал как просекретарь PCCICOR до 1977 года и далее до самого конца как секретарь.
Список председателей (PCCICOR)
- Joseph Parecattil (1972 – 1987)
- Игнатий Климент Мензурати (1972-1977),
- Мирослав Стефан Марусин (1977-1982)
- и Эмлий Эйд (1982-1990)
PCCICOR получила поручение пересмотреть как провозглашенные, так и непровозглашенные тексты Codex Iuris Canonici Ortentalis в соответствии с аутентичными традициями Восточных Церквей и постановлениями II Ватиканского Собора. На этом последнем пункте следует подчеркнуть: во время приготовления предварительного варианта будущего кодекса, PCCICOR не имела возможности изменять постановления, которые принял II Ватиканский Собор.
В 1975 году PCCICOR начала публикацию Nuntia, своего официального журнала. В конце процесса кодификации, в 1990 году, после 31 номера, выпуск журнала был прекращен. Nuntia с самого начала сообщал о прогрессе в процессе пересмотра и таким образом хорошо информировал Церкви об эволюции предыдущих вариантов, начиная с неопубликованных канонов PCCOR. Журнал публиковал новые проекты, которые готовили исследовательские группы, комментарии консультативных органов, пересмотренные тексты, предварительный вариант всего кодекса 1986 года, отзывы на него и дальнейшие исправления, дискуссии и споры пленарного заседания PCCICOR 1988 года, и, наконец, исправления, которые были сделаны после этого заседания.
Неотложная задача, которая встала перед PCCICOR сразу после ее создания, заключалась в организации архивов предыдущего совета, усилия которого начались в 1972 году и завершились в июле 1975. В то же время, патриархов и глав других Восточных Католических Церквей попросили подать предложения по проекту кодификации и квалифицированных лиц, которые могут выполнять функции консультантов.
Первое пленарное заседание PCCICOR состоялось 18-23 марта 1974 года, во время которого папа Павел VI произнес речь, определяющую характер проекта кодификации. Был одобрен также ряд установок, которые сформулировали фундаментальные принципы руководства процессом пересмотра.
2.2. Указания
Главным в повестке дня первого пленарного заседания было определение принципов кодификации. Заседание начало работать над проектом, который подготовил Факультет канонического права Папского восточного института. С небольшими модификациями этот документ был в конце концов одобрен и позже опубликован на трех языках: итальянском (оригинал), французском и английском. Руководство по пересмотру Кодекса восточного канонического права было составлено по образцу Принципов пересмотра Кодекса Канонического Права Латинской Церкви и стало точкой отсчета на протяжении всего процесса кодификации. Мы предоставляем здесь краткое резюме.
1) Единый кодекс для Восточных Церквей.
Главным в повестке дня первого пленарного заседания было определение ряда принципов кодификации. Заседание начало работать над проектом, который подготовил Факультет канонического права Папского восточного института. С небольшими модификациями этот документ был в конце концов одобрен и позже опубликован на трех языках: итальянском (оригинал), французском и английском. Руководство по пересмотру Кодекса восточного канонического права было составлено по образцу Принципов для пересмотра Кодекса Канонического Права Латинской Церкви и стало точкой отсчета на протяжении всего процесса кодификации. Мы предоставлем здесь лишь краткое резюме.
1) Единый кодекс для Восточных Церквей. Различные Восточные Церкви имели давний общий фонд канонической дисциплины. Он мог стать основой для единого кодекса, который касался бы всех Церквей. Различия, которые являются достаточно существенными, могут быть кодифицированы как партикулярное право, отдельное для каждой из этих Церквей. К тому же, опыт, который получили эти Церкви, когда CICO функционировал как общее право, оказался полезным для них, и это еще один аргумент в пользу общего кодекса для всех Восточных Католических Церквей.
2) Восточный характер кодекса. Кодекс должен черпать вдохновение из аутентичных восточных источников и основываться на восточной канонической традиции. Там, где в этих источниках есть пробелы, можно будет обратиться к другим источникам церковного права, чтобы кодекс мог реагировать на потребности современности. Он должен учитывать особые условия, в которых оказались восточные католики, проживающие за пределами первоначальной территории своих Церквей.
3) Экуменический характер кодекса. Согласно принципам, которые принял II Ватиканский Собор, содействие единству Церквей должно быть главной задачей в разработке кодекса. Кодекс должен учитывать тот факт, что Православные Церкви находятся “почти в полном” единении с Католической Церковью и, что их оправданно следует рассматривать как “Церкви-Сестры”, имеющие право на управление согласно собственной дисциплине”.
4) Юридическая природа кодекса. Восточный кодекс должен иметь юридический характер и не быть простым перечнем догматических и моральных истин. Юридический характер охватывает определение прав и обязанностей отдельных лиц и других компонентов Церкви.
5) Пастырский характер кодекса. Кодекс должен иметь яркий пастырский характер и заботиться не только о справедливости, но также о равенстве и добродетели. Епископы и другие лица, которым доверено заботиться о душах, должны получить достаточно дискреционной власти, чтобы приспособить канонические положения к своим особым потребностям.
6) Принцип субсидиарности. Этот принцип утверждает, что полномочия отдельных лиц и низших институций не должны быть зарезервированы за верховной властью. Согласно этому принципу, кодифицируя только то, что является общим для Восточных Католических Церквей, кодекс должен оставить “компетентной власти этих Церквей право регулировать с помощью партикулярного права все другие вопросы, не оговоренные за Святым Престолом”.
7) Обряды и партикулярные Церкви. “Понятие “обряда” следует пересмотреть и прийти к согласию относительно нового термина, который бы характеризовал различные Партикулярные Церкви Востока и Запада”. Принцип равенства этих Церквей (ОЕ 3) следует применить в кодексе, формулируя его юридические последствия.
8) Миряне. Вдохновленные фундаментальным равенством достоинства всех крещеных и с должным уважением относясь к иерархической структуре Церкви, миряне должны иметь свободу действий в вопросах, не зарезервированных за духовенством – в таких сферах, как Литургия, администрация, суды или проповедь Евангелия. Законная свобода выражения мнения и инициатива действий должны быть гарантированы.
9) Процессы. Желательно, чтобы одинаковые процедурные нормы применялись во всей Католической Церкви. Каждая Восточная Католическая Церковь должна иметь компетенцию устанавливать свои собственные суды, чтобы рассматривать дела во всех трех инстанциях вплоть до окончательного приговора, кроме тех случаев, которые оговорены за Святым Престолом. Юридическая защита прав должна применяться ко всем, так чтобы не осталось возможностей для произвольности в управлении Церковью.
10) Уголовные санкции. Все автоматические наказания (poenae latae sententiae) следует устранить из восточного кодекса. Больше следует делать акцент на каноническом предупреждении перед наложением наказания. Каноническое наказание следует рассматривать не только в контексте лишений; согласно восточной традиции, следует рассматривать также возможность обязательства к положительным действиям (покаянию).
2.3. Создание предварительных вариантов
Первой фазой проекта пересмотра было создание полного предварительного варианта кодекса. Вся работа была разделена на восемь частей и доверена девяти комитетам (которых называли coetus или исследовательские группы) под надзором и контролем Центрального комитета (coetus centralis). Эта фаза, которая, по сути, была наиболее трудной, началась в марте 1974 года с одобрения Руководства и закончилась собранием Центрального комитета в мае 1980 года. Были подготовлены дальнейшие проекты:
- иерархическая конституция Восточных Церквей;
- духовенство, миряне и объединения;
- монахи и другие члены институтов посвященной жизни;
- Божий культ и Таинства;
- Евангелизация, церковное обучение, принятие в католическую общину и экуменизм.
- Процессуальное право;
- Уголовные санкции;
- Общие нормы и имущественные вопросы.
Эти проекты были направлены в различные консультативные органы для комментариев. В каждом из них канонам предшествовали praenotanda, которые привлекали внимание к важным проблемам и главным новациям в тексте. Каждый проект был пересмотрен в свете комментариев, во время процедуры, которую PCCICOR называла denua recognitio (второй пересмотр).
Следующим шагом в формировании кодекса была подготовка полного предварительного варианта, который бы объединял все проекты и согласовал их, не только в контексте и терминологии, но и в структурной и логической последовательности. Эта задача также охватывала вопросы орфографии, языкового стиля, пунктуации, перекрестных ссылок и т. д. Именно эту скрупулезную и педантичную работу выполнил комитет, который назывался coetus de coordinatione, начавший свою работу в апреле 1984 года, хотя и denua recognitio проекта по иерархии не был к тому времени завершен. Таким образом, он сформировал Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis 1986 года. Этот комитет продолжал выполнять свою трудную задачу, пока текст не был представлен папе после пересмотра Schema II на пленарном заседании в 1988 году.
2.4. Заголовок, структура і зміст
Несколько слов нужно сказать о заголовке, структуре и содержании ССЕО. Заголовок или название имеет определенный вес. Название выполняет не только функцию идентификации, но и также может указывать на объем и содержание документа. Только этим аспектам было уделено внимание на протяжении всей дособорной фазы кодификации и вплоть до 1986 года, когда пересмотренный Проект был опубликован под названием Codex Iuris Canonici Orientalis (Кодекс Восточного Канонического Права). Однако с этим названием могут также ассоциироваться определенные идеи. Казалось, что это название намекает на то, что кодекс Латинской Церкви, Codex Iuris Canonici (CIC: Кодекс Канонического Права) является стандартным кодексом в Католической Церкви, a Codex Iuris Canonici Orientalis (CICO) является лишь приложением к нему, неким партикулярным или специальным законодательством. Это противоречило бы принципу равенства всех Церквей Запада и Востока, провозглашенному Собором, и, соответственно, равенства их кодексов. Поэтому ощущалась потребность другого названия, поэтому во время II пленарного заседания было, в конце концов, принято название Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Его компоненты можно охарактеризовать так: латинский термин codex имеет соответствие в греческом языке, owtctypa ???, что означает “организованный в определенном порядке”, например военное соединение; упорядоченный сборник текстов, а затем книга; конституция государства. В современном юридическом контексте кодекс означает полный и систематически упорядоченный свод законодательства. Термин canonum более уместен, чем lex или ius, для обозначения церковного характера законодательства и его корней в христианской традиции. Фраза Ecclesiarum Orientalium указывает на предмет, ограниченный законодательством, содержащимся в Кодексе, как это уточнено в к. 1. Поэтому нынешнее название существенно лучше по сравнению с тем, что было в проекте 1986 года (CICO), хотя оно все равно порождает представление, что все восточное требует уточнения “восточное”, в то время как латинское является стандартом и не требует уточнений в Католической Церкви.
В своей структуре ССЕО разделен на ЗО Титулов, упорядочение, которое напоминает древние восточные сборники канонов. И хотя могло бы быть полезно, особенно для дидактических целей и удобства ссылок, чтобы кодексы Западной и Восточной Церквей имели такую же структуру, чувствовалось, что восточная традиционная структура имела некоторые другие важные преимущества, не последним из которых был ее экуменический характер. Тем более, структура CIC не была полностью идеальной. Вслед за дособорным Редакционным Советом, PCCICOR также решила не делить кодекс на libri, как это было сделано в CIC-1917 и CIC, а на tituli. Далее tituli делятся на capita, articuli, под которыми группируются canones.
Относительно количества канонов, то ССЕО со своими 1546 канонами на 206 канонов короче CIC с его 1752 канонами. Эта краткость заслуживает еще большего внимания потому, что в ССЕО речь идет об институциях, характерных для Восточного Кодекса (Патриаршие, Верховные Архиепископские и Автономные Митрополичьи Церкви), а потому содержит примерно 200 канонов, которые не имеют аналогов в CIC или упомянуты только вскользь (например, обрядовые Церкви sui iuris; приписание и переход членов в Церквах sui iuris). Эта относительная краткость обусловлена преимущественно тем фактом, что ССЕО устанавливает только общее законодательство Восточных Католических Церквей, оставляя много деталей для партикулярного права и применяя принцип субсидиарности.
Может показаться довольно ироничным то, что ССЕО опубликован на латинском языке, который официально не использует ни одна Восточная Католическая Церковь и от которого все больше отказываются в западном мире. Появлялись предложения, чтобы наряду с латинским языком, Кодекс был опубликован на французском или английском. Однако техническая трудность этих предложений заключалась в том, что законодательство нуждается в едином, официальном, юридическом тексте, который служил бы авторитетной опорой. Переводы ССЕО уже появились на нескольких языках: английском, итальянском, арабском, украинском, хорватском, французском, малаялам, испанском, немецком, румынском, польском. Появились две разные версии на арабском языке (Египет и Ливан); опубликовано также второе англоязычное издание.
Примечание: Из-за близости между CIC и CCEO ни один из кодексов не может быть изучен, если не будет принят во внимание другой. Для того чтобы идентифицировать канонические соответствия в обоих кодексах и даже бывшем законодательстве (CIC-1917 и так называемый CICO), весьма полезными оказались конкордансы. Первый конкорданс был опубликован как приложение к Code of Canons of the Eastern Churches. Latin-English Edition (Washington, DC: Canon Law Society of America, 1992). Карл Джеродд Фюрст опубликовал Canones Synopse zum Codex Juris Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Freiburg i. Br.: Herder, 1992). Иван Жужек, T. И. создал тематический индекс, Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (Kanonika, 2), PIO, 1992, который в переводе был приобщен к некоторым изданиям ССЕО, например, в новом английском переводе (ССЕС-2).
2.5. Утверждение кодекса (провозглашение)
17 октября 1986 года Schema кодекса была передана членам PCCICOR с просьбой предоставить отзыв до 30 апреля 1987 года. После того как текст был вновь пересмотрен в свете этих отзывов, 3-14 ноября 1988 года состоялось II пленарное заседание PCCICOR. После изменения названия Проекта, о котором мы уже упоминали, и с предложениями о некоторых других изменениях текст был представлен Римскому Архиерею 28 января 1989 года для провозглашения.
Папа изучал текст с помощью нескольких собственных экспертов и сделал несколько последних модификаций. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium был провозглашен папой Иоанном Павлом II Апостольской конституцией Sacri Canones 18 октября 1990 года и приобрел силу закона 1 октября 1991 года. Относительно этого провозглашения были выдвинуты предложения, чтобы оно стало общим юридическим актом Римского Архиерея и глав всех Восточных Католических Церквей. Предложение было отклонено по следующим причинам:
- акт провозглашения может быть только актом Высшей Власти Церкви, то есть папы, поскольку Кодекс содержит материал, общий для всех Восточных Католических Церквей;
- предложение, чтобы главы разных Восточных Католических Церквей подписали декрет о провозглашении вместе с папой не соответствует самому ССЕО, согласно которому они не составляют законодательной власти своих собственных Церквей. Представляется, что эти аргументы не убедили всех заинтересованных иерархов, а также последующих комментаторов.
Учитывая экуменические измерения Кодекса, было выдвинуто предложение, что ССЕО следует провозгласить pro praesentibus conditionibus, как соборный декрет о Восточных Церквах (OE 30), то есть с условием, что ССЕО будет служить, пока не будет достигнуто полное единство с восточными некатолическими Церквами. Однако предложение не было принято, поскольку природа самого законодательства требует определенного постоянства и стабильности. Когда будет достигнуто единство между Восточными Церквами, появится потребность в новом законодательстве.
Во время торжественной презентации Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium перед VIII Всеобщим Синодом Епископов 25 октября 1990 года папа Иоанн Павел II отметил, что этот кодекс является составной частью Corpus iuris canonici Католической Церкви вместе с Codex Juris Canonici 1983 года и Апостольской конституцией Pastor Bonus, содержащей нормы о ведомствах Римской Курии для помощи Римскому Архиерею в его служении Вселенской Церкви. Имеет значение и то, что законодатель представил восточный кодекс Синода Епископов, состоящего преимущественно из латинских епископов, а не группы восточных католических иерархов. Это был символический жест, подчеркивающий тот факт, что точно так же, как традиция Восточных Церквей является частью общего наследия всей Церкви (ОЕ 1), Кодекс Канонов Восточных Церквей является кодексом Католической Церкви. И именно это, видимо, хотел подчеркнуть папа, когда назвал его одним из трех компонентов, составляющих единый Corpus iuris canonici.
С провозглашением ССЕО PCCICOR выполнила свою задачу и поэтому была ликвидирована. Важная задача по предоставлению достоверных толкований в вопросах права была доверена недавно созданному Папскому совету по толкованию законодательных актов, в компетенции которого толкование канонов обоих кодексов, а также других законов Церкви. Иван Жужек, S.J. был назначен его субсекретарем, должность, которую он занимал до своей отставки в 1994 году.
Сделав ССЕО компонентом Corpus Iuris Canonici Католической Церкви, законодатель папа Иоанн Павел II также указал на правильный способ его изучения. Представляя этот Кодекс Синоду Епископов 25 октября 1990 года, он сказал:
“Учитывая существование этого свода законов, невольно появляется предложение, чтобы факультеты канонического права способствовали надлежащему сравнительному исследованию обоих кодексов, даже если они, согласно своему уставу, основным предметом исследований имеют другой кодекс. Действительно, канонистика, полностью соответствующая тем научным степеням, которые присуждают эти факультеты, не может оставить без внимания такое исследование”.
Для такого сравнительного исследования особенно полезным стало издание ССЕО: Fontium Annotatione Auctus 1995 года.
PCLTInt, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, fontium annotatione ayctus, LEV, 1995. Про подготовку этого издания и его источники смотри: Carl Gerold Fürst, “La preparatione deU’edizione di un ‘Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium fontium annotatione auctus”‘, y: lus in vita, 753-761 ; Johannes Madey, Quellen und Grundzüge des Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: Ausgewählte Themen (MünstKomCIC, Beihefte 22), Essen 1999.
Итог: реакция на CCEO
Какой была реакция на CCEO? Этот вопрос выходит за пределы задачи историка кодификации восточного канонического права в Католической Церкви, и требует отдельного исследования для получения адекватного ответа. Однако беглый взгляд на общую ситуацию может стать хорошим итогом для предварительного обзора самой истории кодификации.
В целом можно сказать, что сами Восточные Католические Церкви, которые больше всего заинтересованы в этом кодексе, положительно восприняли ССЕО. Практической проверкой этой реакции является кодификация их партикулярного права, для того, чтобы оно, согласно требованиям кодекса, вступило в силу. Это не означает, что эта реакция была полностью лишена оговорок относительно определенных пунктов, таких как число обращений к Римскому Апостольскому Престолу или нераспространение юрисдикции патриархов и их синодов на диаспору, где проживает значительное количество их верующих. В то же время для тех, кто был активно вовлечен в кодификацию, Кодекс может быть почти “Торой”, которую надо с благодарностью и без малейшего протеста принимать как проявление милости верховного законодателя. Если говорить о реакции факультетов канонического права на сравнительные исследования на предложение самого папы, то появились некоторые положительные признаки их начала, по крайней мере, кое-где. А что касается православных, которым законодатель также “представил” новый кодекс, то пока не видно протянутой руки, готовой принять его, хотя идея общего кодекса для всех Православных Церквей обсуждалась в течение некоторого времени. Действительно, “православные никогда не рассматривали униатские “Церкви” как “мост” к единению двух Церквей [Православной и Католической], о чем утверждают униаты” (Sotirios Varnalidis, “Come e perché l’uniatismo puo bloccare il proseguimento del dialogo cattolico-ortodosso”, Nicolaus 19 (1992) 201-216, на c. 212.). Если говорить о реакции, которую вызвал ССЕО в православных кругах, то православные комментируют его следующим образом: “Однако пока что ССЕО 1990 года приветствовали вежливым молчанием. Православные не комментировали его подробно, не проявляли признаков внедрения каких-либо его элементов в свою жизнь. …Это молчание, это отсутствие реакции может также иметь смысл” (John H. Erickson, “The Code ofCanons ofthe Oriental Churches (1990): A Development Favouring Relations Between the Churches?” Jurist 57 (1997) 285-306, at p. 287; also in: La recepcion y la conumiôn entre las Iglesias, ed., HervéLegrand et al., Salamanca, Universidad Pontificia, 1997, c. 357-381.). В своем очень доброжелательном, но искреннем и взвешенном обзоре ССЕО, тот же автор, Джон Г. Эриксон, заметил, что ССЕО “демонстрирует много внутренних противоречий, непоследовательностей и парадоксов самого католицизма II Ватиканского Собора. Это особенно очевидно в его толковании церковных вопросов… в Титулах III-IX, посвященных иерархической структуре Церкви…”. В то же время он видит, что ССЕО призывает православных “выйти за пределы полемики и начать серьезные богословские размышления” по ключевым вопросам вроде “церковных объединений, таких как патриаршие Церкви” и духовности неправославных Церквей: “Будет ли наша политика и практика в отношении крещеных неправославных, согласных на полное единство с Православной Церковью, хотя бы соизмеримой с тем, о чем идет речь в XVII Титуле ССЕО в отношении крещеных некатоликов, согласных на полное единство с Католической Церковью?” Признавая неоспоримые истины ССЕО, такие как четкое и окончательное разграничение между обрядом и Церковью, довольно много восточных католических авторов также были критичны в отношении ССЕО, особенно тот, кто имеет больше всего публикаций о нем: “ССЕО ни в коем случае не может быть образцом для будущих поисков единения с христианским Востоком: церковная доктрина Кодекса более узкая, чем доктрина Собора”.
Появилось и такое утверждение: “Этот общий кодекс не противопоставлен церковному наследию любой Церкви sui iuris; скорее, в этом кодексе различные Восточные Церкви, которые живут и работают в многообразии социокультурных условий находят лучшее выражение и большую защиту для своевременной модернизации или обновления”. Диаметрально противоположным и радикальным является тезис исследователя, что никогда не существовало никакого канонического наследия, общего для всех Восточных Католических Церквей, и, более того, что ССЕО не уважает древних традиций, присущих им. Но также была действенная критика некоторых мирян, которые даже судились с местной иерархией в гражданском суде из-за того, что она приняла и внедрила в жизнь ССЕО, который, как они жалуются, не защищает их традиционные права в вопросе имущества церкви. Наконец, существует довольно распространенное критическое мнение, что ССЕО является всего-навсего еще одним примером, хотя и более совершенным и современным, латинизации Восточных Католических Церквей.
Интерес к ССЕО со стороны латинских канонистов был преимущественно связан с определенными областями, такими как уголовное право, которое многие признавали более гуманным и евангельским в Восточном Кодексе (например, отсутствие кар latae sententiae), чем в Латинском; синодальная система церковного управления, которая, если ее применить в Латинской Церкви, приведет к децентрализации и лучшему применению принципа субсидиарности, как это произошло в Патриарших Церквах; выборы епископов, а не назначение их папой, и т. д. др. Эти и другие преимущества ССЕО, такие как пневматологическое измерение канонического права, экуменизм, инкультурация, плюрализм (богословский, литургический, духовный и дисциплинарный), права на интеллектуальную собственность и т.д. склоняют, несмотря на некоторые менее удачные черты, к одобрительному отзыву о ССЕО.
Речь папы Иоанна Павла II, произнесенная во время презентации CCEO
В речи, произнесенной перед VIII общим заседанием Синода Епископов 25 октября 1990 года, Его Святейшество папа Иоанн Павел II торжественно представил Кодекс Канонов Восточных Церквей. В своей речи Святой Отец подчеркнул, что с провозглашением этого Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, после Codex Iuris Canonici (1983) для Латинской Церкви и Pastor Bonus (1988) для Римской Курии, пересмотр общего законодательства Католической Церкви, начатый после II Ватиканского Собора, дошел до своего завершения, и что эти три документа составляют единый свод законов (corpus iuris canonici) Католической Церкви. Папа подчеркнул, что, выбрав Синод Епископов для презентации ССЕО, он демонстрирует желание, чтобы этот кодекс приняла вся Церковь; не только Восточные Католические Церкви, для которых он является общим правом, но и “весь епископат Латинской Церкви”. Он выразил надежду, что этот кодекс может стать “орудием любви” в служении Церкви и в распространении экуменического единства Церкви и желание, чтобы кодексы CIC и CCEO стали объектом сравнительных исследований на всех факультетах канонического права, даже если их специализацией является изучение другого, а также рекомендовал изучение обоих кодексов в системе семинарского образования.
Латинский текст папской речи был впервые опубликован в L’Osservatore Romano 27 октября 1990 года, с. 4-5. Английский перевод появился в английском еженедельном издании от 5 ноября 1990 года, который был перепечатан с определенными исправлениями в Gallagher, Code Introd, с. 9-18. Данная редакция основывается на этом тексте, в котором были заполнены некоторые пробелы и исправлены отдельные неточности как в латинском тексте, так и в оригинальном итальянском (Nuntia 31 [1990] 17-23), переводом которого является собственно латинский текст (AAS 83 [488-498; Nuntia 31 [1990] 10-16). Мы добавляем этот важный документ в Путеводитель, чтобы сделать его доступным для всех и таким образом способствовать реализации его практических указаний.
+++
Уважаемые Братья Кардиналы, Патриархи, Архиепископы и Епископы, выдающиеся Ректоры и Деканы Папских университетов и других высших церковных учебных заведений, факультетов канонического права в Риме, мои дорогие сыновья и дочери!
- С глубокой благодарностью и искренней радостью я благодарю Бога, подателя всех благ и небесной благодати, за эту особую возможность торжественно представить на этом давно ожидаемом собрании Кодекс Канонов Восточных Церквей. Я провозгласил этот кодекс Апостольской конституцией Sacri Canones в прошлый четверг, 18 октября, в день св. Луки Евангелиста, с твердой надеждой, что Восточные Католические Церкви, с Божьей помощью и под материнской опекой Преблагословенной Девы Марии, станут на еще более светлый путь утверждения в сердцах всех своих верных царства Божьего, о приходе которого мы молимся каждый раз, когда произносим “Отче Наш”, молитву, которой учил нас Господь Наш Иисус Христос. “Да приидет Царствие Твое”, Господи Иисусе! Пусть этот кодекс, который является общим для всех Восточных Католических Церквей, станет достойным юридическим документом, впервые в истории Церкви провозглашенным Твоим Наместником, слугой Твоих слуг!
- Я очень счастлив, что смог провозгласить этот кодекс по случаю созыва Синода Епископов, и теперь имею возможность представить его на одном из общих заседаний Синода: представить его перед вами, дорогие братья. Вы истинно представляют, даже если и особым образом, все Церкви Востока и Запада, имеющие равное достоинство и в равной степени доверенные пастырскому правительству Римского Архиерея (ОЕ 3); перед теми, кто был призван помогать мне советом, не только для защиты и приумножения веры и морали”, но и ради “сохранения и укрепления церковной дисциплины” (CIC к. 342).
- Тот факт, что это уважаемое заседание представляет Вселенскую Церковь, убеждает меня, что, представляя Кодекс Канонов Восточных Церквей на одном из общих заседаний Синода, я исполнил свое горячее желание, чтобы его приняла вся Католическая Церковь: как Восточные Церкви, в которых он будет иметь силу с 1 октября следующего года, так и весь епископат Латинской Церкви во всем мире, и чтобы он считался частью дисциплинарного наследия Вселенской Церкви, как и Кодекс Канонического Права, недавно провозглашенный в 1983 году, который имеет силу права для Латинской Церкви. По сути, оба кодекса черпают свою силу из той же заботы Наместника Христа и полностью посвящены тому, чтобы установить во Вселенской Церкви тот “порядок спокойствия”, который (как я умышленно выразился в обеих апостольских конституциях, которыми провозгласил эти кодексы) “подчеркивая первенство любви, благодати и харизмы, одновременно способствует их естественному развитию в жизни как церковного общества, так и отдельных лиц, принадлежащих к нему”.
- Провозглашая Кодекс Канонического Права для Латинской Церкви, я осознавал, что не все было сделано, чтобы установить такой порядок во Вселенской Церкви. Законодательства по реорганизации Римской Курии пока не было. И на протяжении многих веков не было также кодекса, который бы содержал право, общее для всех Восточных Католических Церквей, кодекса, который отражал бы не только их обрядовое наследие и обеспечил бы его сохранение, но и бы также оберегал, защищал и приумножал их жизнеспособность и силу в исполнении миссии, доверенной им (ОЕ 1).
Приложено много энергичных и жертвенных усилий, чтобы заполнить эти два пробела как можно скорее. Апостольская конституция Pastor Bonus от 28 июня 1988 года была призвана реорганизовать Римскую Курию. Уже решено, что эту конституцию следует приобщить к официальным изданиям обоих кодексов, поскольку это закон, который касается Вселенской Церкви. Что касается общего кодекса для Восточных Католических Церквей, то это дело было счастливо завершено в течение этого VIII общего заседания Синода Епископов. Действительно, только теперь обновление всей дисциплины Католической Церкви, начатое на II Ватиканском Соборе, было доведено до конца, и хвала Богу за это. Однако, неоспоримым является и тот факт, что провозглашение Кодекса Канонов Восточных Церквей знаменует начало путешествия, которое, как мы надеемся, будет ярким и плодотворным. Мы также заявляем о своей надежде, высказанной в июне 1986 года, что в недавно провозглашенном Кодексе уважаемые Восточные Церкви “смогут распознать не только свои традиции и дисциплину, но и прежде всего свою роль и миссию в будущем Вселенской Церкви и распространении царства Христа Вседержителя” , так чтобы этот кодекс мог действительно стать “орудием любви” в служении Церкви. - Углубляясь в суть дела, я считаю уместным подчеркнуть, что кодекс, регулирующий церковную дисциплину, даже если он и изложен в многочисленных канонах и параграфах, также следует рассматривать как особое выражение любви, которую Господь Наш Иисус оставил нам на Тайной вечере. II Ватиканский Собор, говоря о мессианском народе, который имеет Христа своим проводником, свободу и достоинство детей Божьих – своим условием, а царство Божье – своей целью, утверждает, что только эта любовь, по сути, и является законом для этих людей (???). И именно в свете и на основе этого Закона эти три свода законов были сформированы под постоянной опекой того, кто, как Епископ Римской Церкви, “председательствует в любви”, как говорил Игнатий Антиохийский, “любви”, которая объединяет все Церкви.
- Я рад представить новый общий Кодекс Восточных Католических Церквей перед этим уважаемым собранием также и потому, что это то самое собрание, которое, в нашей общей заботе о благе Вселенской Церкви, выразило три желания в последнем докладе Внеочередного Синода 1985 года: во-первых, чтобы был подготовлен компендиум всей католической доктрины, как точка опоры для катехизисов или компендиумов для всех партикулярных Церквей; во-вторых, чтобы было сделано более глубокое исследование природы Епископских Конференций; и, в-третьих, было выражено “желание завершить Кодекс канонического права для Восточных Церквей в соответствии с традициями этих Церквей и нормами II Ватиканского Собора”. Я тепло приветствовал это “желание” Синода Епископов и особым образом выделил его в своей последней речи перед этим самым Синодом, поскольку сам глубоко переживал за него.
- Мы можем быть благодарны Богу, что один из этих трех “приоритетов”, названных тогда, был воплощен в жизнь в эти дни. С другой стороны, непросто выразить благодарность всем, кто был причастен к формированию Кодекса Канонов Восточных Церквей. Прошло много времени с тех пор, как папа Пий IX, на аудиенции, предоставленной 3 августа 1927 года кардиналу Луиджи Синчеро, признал насущную необходимость кодификации восточного канонического права. С тех пор прошло 63 года, a iter кодекса был долгим, как это описано во Введении. При каждой возможности я с благодарностью вспоминаю уважаемых кардиналов: Петра Гаспари, Луиджи Синчеро, Массимо Массими и Петра Агаджанияна, которые становились преемниками друг друга в руководстве восточной кодификацией до середины 1972 года; кардинала Акакия Куссу, который на протяжении многих лет старательно выполнял важную работу секретаря, прежде чем стал кардиналом. Также я с благодарностью вспоминаю кардинала Иосифа Парекаттила, который до самой смерти руководил пересмотром восточного кодекса, а также монсеньора Игнатия Климента Мензурати, который был вице-президентом на первой стадии работы. Я благодарен двум последующим высокодостойным вице-президентам: монсеньору Мирославу Стефану Марусину, который внес вклад в эту работу на промежуточной стадии, и монсеньору Эмлию Эйду, который имел возможность и честь довести все дело до счастливого конца. Я с благодарностью вспоминаю отца Ивана Жужека, Т.И., который занимал должность секретаря по пересмотру Кодекса с самого начала и вплоть до сих пор. Я благодарю также Кардиналов, Патриархов, Архиепископов и Епископов, которые в истинно коллегиальном духе прилагали усилия для успешного результата этой работы; всех консультантов, экспертов и штатных сотрудников, которые сотрудничали с большим посвящением. Особенно я хотел бы поблагодарить консультантов с факультета канонического права Папского восточного института, сотрудничество которого в этом качестве было очень ценным; и выдающегося профессора доктора Карла Джерольда Фюрста, вместе с Institut für Kirchenrecht Фрайбургского университета, которым он руководит, за ценный вклад в coordinatio всего кодекса.
- Представляя на этом заседании, которое на самом деле представляет Вселенскую Церковь, Кодекс, определяющий общую дисциплину Восточных Католических Церквей, я хотел бы заметить, что считаю его неотъемлемой частью одного corpus iuris сапопісі, который состоит из трех упомянутых выше документов, провозглашенных в течение нескольких лет. Учитывая существование этого свода законов, невольно появляется предложение, чтобы факультеты канонического права способствовали надлежащему сравнительному исследованию обоих кодексов, даже если они, согласно своему уставу, основным предметом обучения имеют другой кодекс. Действительно, канонистика, полностью соответствующая тем научным степеням, которые присуждают эти факультеты, не может оставить без внимания такое исследование. Так же и в священнической подготовке в целом следует рекомендовать такие начинания, как информационные курсы и семинары, способствующие большему познанию всего того, что составляет настоящую “in unum conspirons varietas” обрядового наследия Католической Церкви.
- Надежды, которые я только что выразил, продиктованы также пристальной заботой, которую я имею как Верховный пастырь Церкви Христовой, особенно о тех верных Восточных Церквей, которые живут вне территорий, в пределах которых патриархи, верховные архиепископы, митрополиты и другие главы Церквей sui iuris могут правомочно осуществлять полномочия, предоставленные им согласно норме закона, установленного верховной властью Церкви, и участвуя в этой власти. Многим из этих верующих была оказана помощь благодаря созданию их собственных церковных округов, таких как епархии и экзархии, управляемых епископами и другими иерархами, назначенными Святым Престолом и непосредственно ответственными за них; другие, напротив, находятся под опекой латинских ординариев. И всегда неизменным желанием верховных архиереев было, чтобы все эти верные, по словам II Ватиканского Собора, “по всему миру придерживались своего обряда, его лелеяли и по возможности соблюдали” (ОЕ 4).
Святой Престол, особенно благодаря неутомимому труду Конгрегации по делам Восточных Церквей, которая заслуживает особого признания, делал и будет делать все возможное, чтобы эти верные нашли благоприятные условия во всем мире для воплощения желания, высказанного только что. Святой Престол также уверен, что все ординарии, чьей пастырской заботе они были доверены, будут разделять это заботливое отношение, будучи убеждены, что таким образом они будут оказывать существенную услугу Вселенской Церкви и проявлять свою заботу о том, что является самым ценным и самым дорогим для человека, а именно: иметь возможность придерживаться той духовной культуры, в которую Творец поместил его от рождения так, чтобы этот образ жизни полностью соответствовал тому, что необходимо для “спасения душ”. - Если каждый закон, согласно известному выражению св. Фомы Аквинского, является “разумным предписанием для общего блага, провозглашенным тем, кто опекает сообщество”, это особенно касается, и очень исключительным образом, канонов, регулирующих церковную дисциплину. В истинном смысле этого слова речь идет о “священных канонах”, если использовать выражение, которое постоянно используется на всем Востоке, в твердой вере, что священным является все, что решают священные пастыри, пока они наделены властью, данной им Христом и использованной под руководством Святого Духа для добра душ всех тех, кто, освященный крещением, составляет единую, святую Церковь. Даже если в кодексах есть много “исключительно церковных законов”, как это сказано в каноне обоих кодексов (к. 1490; CIC к. 11), которые, следовательно, могут быть заменены на другие правомочным законодателем, их raison d’être является полностью “священным”; и даже если они принадлежат к человеческим ordinatio gationis, они были сформулированы не только после долгих размышлений, но также в непрерывной молитве всей Церкви. Следует исходить из того, что все нормы Кодекса содержат большую мудрость. Действительно, они были изучены основательно и во всех своих аспектах благодаря сотрудничеству иерархии Восточных Церквей и в свете почти двухтысячелетней традиции, одобренной древними священными канонами, вплоть до декретов II Ватиканского Собора.
- Поэтому пусть этот кодекс будет принят, в своей целостности и в каждом из своих канонов, всей Церковью, в спокойствии духа и с верой, что его соблюдение привлечет ко всем Восточным Церквам те небесные милости, которые позволят им еще больше процветать во всем мире. Это призыв, который касается особенно тех норм Кодекса, которые неоднократно были объектом моего интереса и, в конце концов, сформулированы именно таким образом, поскольку верховный архиерей считает их необходимыми для добра Вселенской Церкви и для сохранения ее правильного порядка, а также фундаментальных и весомых прав человека, спасенного во Христе.
- К этим нормам следует отнести те, в которых идет речь о власти глав Церквей sui iuris, ограниченной определенной территорией, а также нормы, связанные с общей волей родителей относительно обрядового наследия детей. Имейте веру, что Царь царей и Владыка владык никогда не позволит, чтобы пристальное соблюдение этих законов навредило Восточным Церквам. В любом случае, относительно первого пункта я повторяю то, что уже говорил перед последним пленарным заседанием членов совета, который подготовил Кодекс. Теперь, когда Кодекс провозглашен, я буду счастлив рассмотреть предложения, которые были сформулированы на Синодах во всех деталях и с четкими ссылками на нормы Кодекса относительно того, что следовало бы конкретизировать с помощью ius speciale и ad tempus и к чему Кодекс сам показал путь в специальном каноне, который содержит фразу “ius a Roman Pontifice approbatum”. Подобную фразу содержит также канон о совместной воле супругов относительно выбора обрядового наследия для их детей, что поможет показать правильный путь и принять надлежащие меры, если это действительно потребуется для защиты и роста Восточных Церквей в тех местах, где они являются меньшинством. Однако я очень уверен, что во всех регионах компетентные учреждения, такие как Конференции Епископов и Межцерковные Синоды, найдут способ обеспечить не только мирное сосуществование верующих, принадлежащих к разным обрядам, но и создать, хотя и в разнородном многообразии, единую семью детей Божьих, которые любят друг друга так, как Иисус полюбил нас. Я также убежден, что все Церкви sui iuris могут быть уверены, что их выживание, защита их идентичности, их рост и сам их образ в современном мире не будут в опасности, если “сердце, совесть, поведение и действия” их верующих будут соответствовать глубочайшим человеческим и христианским ценностям, а также “взаимному смирению супругов во Христовом страхе”.
- Завершая презентацию общего кодекса всех Восточных Католических Церквей, я не могу не почтить своим вниманием также и Православные Церкви. Я хотел бы представить новый Кодекс и для них, потому что он с самого начала задумывался и формировался в соответствии с экуменическими принципами, прежде всего, в большом уважении, которое имеет к ним Католическая Церковь как к “Церквам-Сестрам”, которые уже находятся “почти в полном единении с Римской Церковью”, как утверждал Павел VI, и к их пастырям, как к тем, кому “была доверена часть Христова стада”. В Кодексе нет нормы, которая не призывала бы к единству всех христиан. В нем есть четкие нормы для Восточных Католических Церквей относительно содействия этому единству, “прежде всего молитвами, примером жизни, благочестивой верностью древним традициям Восточных Церквей, взаимным и лучшим познанием, сотрудничеством и братской оценкой вещей и сердец” (к. 903). Эти нормы не позволяют ничего, что имело бы даже отдаленный намек на действия или начинания, которые не согласуются с тем, что Католическая Церковь громко провозглашает во имя Спасителя человечества относительно фундаментальных прав каждого человека и каждой крещеной личности, а также прав каждой Церкви не только существовать, но и развиваться, расти и процветать.
Кроме того, что все католики должны придерживаться этих норм, я также уверен, что повсюду будет достигнуто полное взаимопонимание относительно этих фундаментальных человеческих и христианских ценностей, и что экуменический диалог может быть плодотворным среди братьев, которые любят друг друга во Христе, вплоть до того дня, который, как мы надеемся, наступит скоро, когда сможем причащаться в полном единстве со всеми Восточными Церквами телом и кровью Христа, в том единстве, о котором он сам молился Отцу на тайной вечере.
Пусть новый Кодекс Канонов Восточных Церквей будет счастливым и действенным орудием порядка в жизни Восточных Церквей, чтобы они могли процветать ради добра душ и распространения Христова царства во славу Божью!