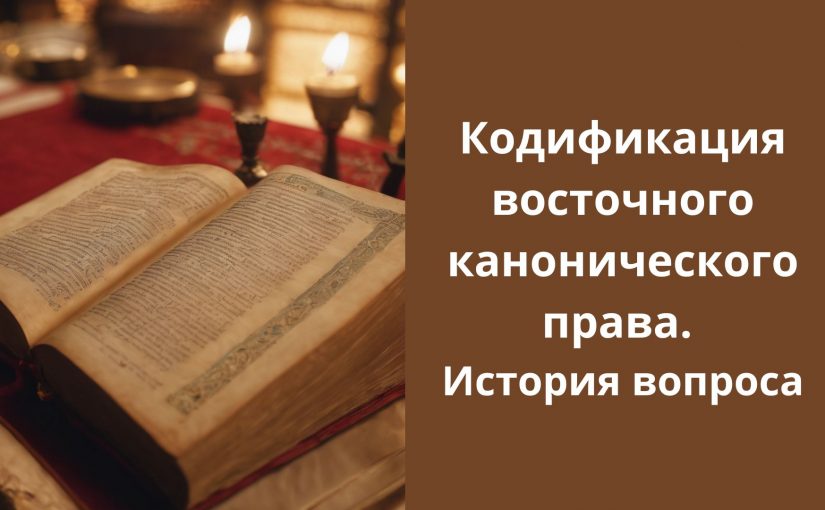Day: October 23, 2023
Кодификация восточного канонического права. История вопроса
Папа Иоанн XXIII созвал II Ватиканский Собор, чтобы обсудить роль Католической Церкви в современном мире, которая требовала общего обновления Церкви. Одним из аспектов такого обновления была каноническая дисциплина Церкви, как латинская, так и восточная. В этом исследовании мы кратко проследим историю кодификации права Восточных Католических Церквей.
Уже до VII Вселенского Собора в Никее (787), Церковь обладала общим фондом из 765 канонов, который создали Вселенские и Поместные соборы, а также Отцы Церкви, и которые были одобрены первым каноном самого II Никейского Собора. Хотя эти каноны объединены в канонических сборниках, они никоим образом не были систематизированы.
Столетия законодательной деятельности любого общества, будь то церковного или гражданского, вполне естественно приводят к появлению огромного корпуса законов, который, если его не систематизировать, может стать трудным в использовании и содержать устаревшие и даже противоречивые элементы. Следствием такой ситуации является неуверенность в правосильности законов, произвольность в управлении и постоянное ощущение опасности. Поэтому, наряду с законодательной деятельностью, необходимо стремление организовать свод законов, сделать его доступным и помогать юристам и экспертам в его осмыслении и толковании.
Одним из способов систематического упорядочения законов является кодификация. Слово кодекс имеет латинское происхождение, и первоначально им называли деревянные дощечки, покрытые воском (впоследствии их заменил пергамент или папирус), которые использовались для письма. В современной юридической терминологии кодексом называют свод законов, систематически упорядоченных согласно неизменной системе принципов. Такой кодекс устраняет, прежде всего, все противоречивое и устаревшее законодательство и обычно добавляет свежо провозглашенные законы. Кодекс может охватывать все сферы законодательства для определенного общества или ограничиваться одной как, например, гражданское, торговое, уголовное или морское право.
В течение IV века секулярная имперская власть переняла роль куратора Церкви и издавала законы, которые были, по сути, церковными по своей природе. Nomocanon (νόμος – “право”, и κανόν – “правило”), сборник как светского, так и церковного права, сформировался в результате тесного объединения Церкви и государства.
В светской сфере интерес к кодификации законодательства возрос в конце XVIII века, во времена Просвещения. Европейская секулярная власть усвоила философский принцип Просвещения, что государство может быть построено на принципах разума и, что юридическая система также должна быть всесторонней, рациональной и систематической, то есть кодифицированной. Кодификация законодательства была не просто сборником законов, а новой формулировкой их согласно определенным принципам, соответствующим ментальности и потребностям времени.
Первые гражданские современные кодексы были составлены в Пруссии, Австрии и Франции. Кодификация французского законодательства (1804) послужила образцом для большинства кодексов вне англо-американской сферы влияния. Позднее современные кодексы, такие как Германский гражданский кодекс (1900) и Швейцарский гражданский кодекс (1912), которые произошли от французской наполеоновской модели, стали примерами процесса кодификации в XX веке.
Очевидные преимущества кодексов для светского общества не остались незамеченными для церковных властей. На протяжении I Ватиканского Собора (1869-1870) проводились дискуссии по поводу того, что делать с огромным количеством законов, накопившихся за прошедшие пятнадцать веков. Папа Пий X (1909-1914), энцикликой Arduum sane munus, провозгласил, что начинается выполнение трудной задачи кодификации законов Церкви.
Codex Iuris Canonici, который создала небольшая группа известных канонистов вроде Франца Вернца, возглавляемая кардиналом Петр Гаспари, был провозглашен папой Бенедиктом XV (1914-1922) 27 мая 1917 года и приобрел силу закона 19 мая 1918 года.
1. Codex Iuris Canonici Orientalis
Уже в 1862 году папа Пий IX (1846-1878) основал специальный отдел Конгрегации по делам распространения веры, который получил название “Конгрегация по делам распространения веры для восточного обряда”. Отдел обсуждал преимущества кодификации для Восточных Церквей. Предварительно это ведомство начало создавать сборник канонов Восточных Церквей.
1.1. Предварительная подготовка к кодификации
На протяжении предыдущей фазы I Ватиканского Собора, в письменных мнениях, которые подали восточные католические патриархи и епископы, высказывалась настоятельная потребность в корпусе законов, которые бы действовали во всех Восточных Католических Церквах. Эта потребность также обсуждалась в Подготовительном Совете для миссий и Церквей восточного обряда, который отстаивал позицию в пользу единого кодекса для всей Католической Церкви. Предложение, однако, столкнулось с серьезным сопротивлением участников собора. К сожалению, желание получить полный кодекс оставалось неосуществленным в течение некоторого времени.
Это не означало, что потребность в систематизированных восточных законодательных текстах игнорировалась. Различные Восточные Католические Церкви провели ряд соборов:
- Шарфезский собор Сирийской Церкви (1888),
- Львовский собор русинов (1891),
- два Алба-Юлийских собора румын (1882 и 1990),
- Александрийский собор Коптской Церкви (1898)
- и Римский собор Армянской Церкви (1911).
До начала XX века свод законов Восточных Католических Церквей охватывал древние каноны и сборники, акты Римского Апостольского Престола, синодальное законодательство тех же Церквей (один из которых был специально одобрен Римским Апостольским Престолом, а именно, Ливанский Собор Маронитской Церкви 1736 года), обычаи, патриаршие законы, эдикты светской власти относительно церковных дел, епископские уставы и конституции, а также правила религиозных институтов. После провозглашения CIC-1917 восточные католические иерархии вскоре выразили желание подобной кодификации законодательства своих Церквей.
25 июля 1927 года, на пленарном собрании Конгрегации по делам Восточных Церквей, проект кодификации восточного канонического права был предложен официально, единогласно принят и передан на рассмотрение Папе Пию XI (1922-1939) С августа 1927 года. В 1929 году Конгрегация направила циркуляр восточным католическим патриархам, в котором указала, что папа обратил внимание на желание патриархов кодифицировать восточное каноническое право и решил удовлетворить их просьбу. Патриархам предложили посоветоваться со своими епископами и другими лицами в своих Церквах и представить их предложения по выполнению проекта. Им также дали указание назначить квалифицированного священника, который будет участвовать в проекте.
Предыдущий Главный Совет с папой во главе и членами кардиналом Петром Гаспари, кардиналом Луиджи Синчеро и сирийским Патриархом Рахмани был основан в 1927 году. 27 апреля 1929 года кардинал Бонавентура Черетти заменил Патриарха Рахмани из-за состояния здоровья последнего. Совет консультантов, в который входили три эксперта канонического права, присоединился к этому Совету. 4 июля 1929 года Совет собрался на пленарную сессию, чтобы проанализировать ответы патриархов и определить наилучший способ выполнения проекта кодификации. Убедившись, что ответы патриархов были единодушными в своей поддержке этой идеи, Совет направил свои предложения относительно выполнения проекта Римскому Архиерею для принятия окончательного решения.
29 ноября 1929 года папа Пий XI создал Комиссию кардиналов для подготовки восточной кодификации под руководством кардинала Петра Гаспари. Чтобы помочь кардиналам в подготовительной работе, была создана Коллегия делегатов, в которую входило четырнадцать священников, которые представляли различные Церкви и были назначены своими синодами и соответствующими властями. Четыре священника вошли в состав Коллегии как религиозные эксперты. Была также учреждена Коллегия советников, в которую входили двенадцать экспертов по источникам восточного канонического права. Она должна была собрать и опубликовать канонические источники. Коллегия функционировала с 15 сентября 1930 года до 6 августа 1936 года и подготовила девять проектов (schemata), которые были распространены среди различных иерархов, ведомств и университетов с тем, чтобы они высказали свое мнение.
С самого начала было много дискуссий относительно того, должен ли общий кодекс для Востока и Запада католического сообщества, то есть, Codex Iuris Canonici Universalis, стать целью работы. В конце концов, от этой идеи отказались, однако CIC1917 неизбежно должен был послужить источником вдохновения и основой для кодификации восточного канонического права.
Следует упомянуть Акакия Куссу, Базилиана Гиеромонка из Алеппо и профессора восточного канонического права в Institutum Utriusque Iuris Латеранского Университета, который исполнял обязанности секретаря PCCOR. Позже он получил звание кардинала; его преемником стал Отец Дэниел Фалтин, Ч.Б.М., Конв., исполнявший обязанности “ассистента” того же совета.
1.2. Редакционный Совет (PCCOR)
В 1935 году Пий XI основал Pontificia Commissio Codicis Orientalis Redigendo (PCCOR: Папский Совет по редакции восточного канонического права), которому было доверено задание пересмотра schemata, учитывая комментарии, которые подали различные консультационные органы. После более чем двенадцатилетней работы, в марте 1948 года, PCCOR представил папе Пию XII (1939-1958) полный проект Codex Iuris Canonici Orientalis (CICO), состоящий из 2666 канонов почти в окончательной форме. Поскольку некоторые Церкви на Ближнем Востоке испытывали острую потребность в новом законодательстве, папа провозгласил четыре части проекта в форме “motu proprio” (MP: буквально – “по собственной инициативе”).
1.3. Структура дособорного кодекса (СІСО)
К четырем частям Проекта, которые провозгласил папа Пий XII и, которые составляли неполный, дособорный восточный Кодекс, Codex Iuris Canonici Orientalis (CICO: Кодекс Восточного Канонического Права), принадлежали дальнейшие MP (motu proprio):
(1) Crebrae Allatae (CA): 131 канон о супружестве, провозглашенный 22 февраля 1949 года и вступивший в силу закона 2 мая 1949 года;
(2) Sollicitudinem Nostram (SN): 576 канонов о процедуре, провозглашенные 6 января 1950 года и вступившие в силу закона 6 января 1951 года;
(3) Postquam Apostolicis Litteris (PAL): 325 канонов о церковном и светском имуществе, а также определения терминов, провозглашенные 9 февраля 1952 года и вступившие в силу закона 21 ноября 1952 года;
(4) Cleri Sanctitati (CS): 558 канонов об обрядах и лицах, провозглашенные 2 июня 1957 года и получившие юридическую силу 25 марта 1958 года.
Хотя Восточные Католические Церкви в целом хорошо восприняли эти четыре MP, определенные канонические нормы, особенно по Cleri Sanctitati вызвали серьезные предостережения со стороны патриархов, которые чувствовали, что их полномочия неоправданно ограничены, особенно в части требований получения разрешения или одобрения Римского Апостольского Престола даже в относительно незначительных деловых вопросах, что практически сводило на нет принципы автономии и субсидиарности.
25 января 1959 года папа Иоанн XXIII объявил о созыве собора Римской епархии и вселенского собора для Католической Церкви. Папа отметил, что одним из аспектов общей программы aggiornamento (осовременивания) Церкви будет обновление ее канонической дисциплины. Он специально упомянул дальнейшее провозглашение CICO, которое должно было стать предвестником программы церковного обновления. Однако позже стало очевидным, что это общее право для Восточных Католических Церквей также потребует адаптации к современности. Папа, таким образом, отложил запланированное провозглашение канонов о Таинствах и приостановил весь проект до завершения собора. Тем временем, PCCOR продолжала работу по сбору источников и предоставлению достоверных толкований провозглашенных канонов.
В упомянутых выше четырех MP из всех 2666 канонов было провозглашено только 1574. Остальные неутвержденные тексты остались в архивах и выполнили после собора роль textus initialis (TI: начальный текст), которые могут пригодиться для новой кодификации.
1.4. Изменения в CICO после II Ватиканского Собора
21 ноября 1964 года II Ватиканский Собор принял три очень важных документа:
- Догматическую конституцию о Церкви, Lumen Gentium;
- Декрет об Экуменизме, Unitatis Redintegratio; и
- Декрет о Восточных Католических Церквах, Orientalium Ecclesiarum.
Поскольку этот последний декрет освещал многие дисциплинарные вопросы, часть которых делала нормы CICO устаревшими, его можно справедливо считать первоначальным кодексом, первым шагом к соборной канонической реформе Восточных Католических Церквей. Для большинства из этих Церквей декрет приобрел силу закона 22 января 1965 года. Учитывая извещение, которое позволяло патриархам сокращать или продлевать vacatio, было несколько исключений для даты, когда декрет вступил в силу для определенных общин.
2. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
Об истории послесоборной или Второй кодификации общего канонического законодательства для Восточных Католических Церквей в сжатой форме рассказывали несколько авторов (см. библиографию). В этом комментарии мы ограничимся ее самыми яркими чертами.
2.1. Комиссия по пересмотру
10 июня 1972 года папа Павел VI основал Папский Совет по пересмотру кодекса восточного канонического права (PCCICOR), состоявший из членов (сначала их было 25, а впоследствии их количество возросло до 29), которые имели право решающего голоса, и 70 советников, в основном, епископов и пресвитеров Восточных Церквей, а также священнослужителей и светских ученых Латинской Церкви, которые были экспертами по восточному каноническому праву. В духе экуменизма также были приглашены в качестве наблюдателей, восточные некатолики. Они выполняли роль консультантов (но без права голоса в исследовательских группах) во время процесса пересмотра.
Президентом PCCICOR был назначен кардинал Иосиф Парекаттил (Joseph Parecattil) из Сиро-Малабарской Церкви, который занимал эту должность до дня своей смерти в 1987 году. После этой даты должность президента оставалась вакантной. Дальнейшими вице-президентами Совета были Игнатий Климент Мензурати (1972-1977), Мирослав Стефан Марусин (1977-1982) и Эмлий Эйд (1982-1990). Иван Жужек, Т. И., работал как просекретарь PCCICOR до 1977 года и далее до самого конца как секретарь.
Список председателей (PCCICOR)
- Joseph Parecattil (1972 – 1987)
- Игнатий Климент Мензурати (1972-1977),
- Мирослав Стефан Марусин (1977-1982)
- и Эмлий Эйд (1982-1990)
PCCICOR получила поручение пересмотреть как провозглашенные, так и непровозглашенные тексты Codex Iuris Canonici Ortentalis в соответствии с аутентичными традициями Восточных Церквей и постановлениями II Ватиканского Собора. На этом последнем пункте следует подчеркнуть: во время приготовления предварительного варианта будущего кодекса, PCCICOR не имела возможности изменять постановления, которые принял II Ватиканский Собор.
В 1975 году PCCICOR начала публикацию Nuntia, своего официального журнала. В конце процесса кодификации, в 1990 году, после 31 номера, выпуск журнала был прекращен. Nuntia с самого начала сообщал о прогрессе в процессе пересмотра и таким образом хорошо информировал Церкви об эволюции предыдущих вариантов, начиная с неопубликованных канонов PCCOR. Журнал публиковал новые проекты, которые готовили исследовательские группы, комментарии консультативных органов, пересмотренные тексты, предварительный вариант всего кодекса 1986 года, отзывы на него и дальнейшие исправления, дискуссии и споры пленарного заседания PCCICOR 1988 года, и, наконец, исправления, которые были сделаны после этого заседания.
Неотложная задача, которая встала перед PCCICOR сразу после ее создания, заключалась в организации архивов предыдущего совета, усилия которого начались в 1972 году и завершились в июле 1975. В то же время, патриархов и глав других Восточных Католических Церквей попросили подать предложения по проекту кодификации и квалифицированных лиц, которые могут выполнять функции консультантов.
Первое пленарное заседание PCCICOR состоялось 18-23 марта 1974 года, во время которого папа Павел VI произнес речь, определяющую характер проекта кодификации. Был одобрен также ряд установок, которые сформулировали фундаментальные принципы руководства процессом пересмотра.
2.2. Указания
Главным в повестке дня первого пленарного заседания было определение принципов кодификации. Заседание начало работать над проектом, который подготовил Факультет канонического права Папского восточного института. С небольшими модификациями этот документ был в конце концов одобрен и позже опубликован на трех языках: итальянском (оригинал), французском и английском. Руководство по пересмотру Кодекса восточного канонического права было составлено по образцу Принципов пересмотра Кодекса Канонического Права Латинской Церкви и стало точкой отсчета на протяжении всего процесса кодификации. Мы предоставляем здесь краткое резюме.
1) Единый кодекс для Восточных Церквей.
Главным в повестке дня первого пленарного заседания было определение ряда принципов кодификации. Заседание начало работать над проектом, который подготовил Факультет канонического права Папского восточного института. С небольшими модификациями этот документ был в конце концов одобрен и позже опубликован на трех языках: итальянском (оригинал), французском и английском. Руководство по пересмотру Кодекса восточного канонического права было составлено по образцу Принципов для пересмотра Кодекса Канонического Права Латинской Церкви и стало точкой отсчета на протяжении всего процесса кодификации. Мы предоставлем здесь лишь краткое резюме.
1) Единый кодекс для Восточных Церквей. Различные Восточные Церкви имели давний общий фонд канонической дисциплины. Он мог стать основой для единого кодекса, который касался бы всех Церквей. Различия, которые являются достаточно существенными, могут быть кодифицированы как партикулярное право, отдельное для каждой из этих Церквей. К тому же, опыт, который получили эти Церкви, когда CICO функционировал как общее право, оказался полезным для них, и это еще один аргумент в пользу общего кодекса для всех Восточных Католических Церквей.
2) Восточный характер кодекса. Кодекс должен черпать вдохновение из аутентичных восточных источников и основываться на восточной канонической традиции. Там, где в этих источниках есть пробелы, можно будет обратиться к другим источникам церковного права, чтобы кодекс мог реагировать на потребности современности. Он должен учитывать особые условия, в которых оказались восточные католики, проживающие за пределами первоначальной территории своих Церквей.
3) Экуменический характер кодекса. Согласно принципам, которые принял II Ватиканский Собор, содействие единству Церквей должно быть главной задачей в разработке кодекса. Кодекс должен учитывать тот факт, что Православные Церкви находятся “почти в полном” единении с Католической Церковью и, что их оправданно следует рассматривать как “Церкви-Сестры”, имеющие право на управление согласно собственной дисциплине”.
4) Юридическая природа кодекса. Восточный кодекс должен иметь юридический характер и не быть простым перечнем догматических и моральных истин. Юридический характер охватывает определение прав и обязанностей отдельных лиц и других компонентов Церкви.
5) Пастырский характер кодекса. Кодекс должен иметь яркий пастырский характер и заботиться не только о справедливости, но также о равенстве и добродетели. Епископы и другие лица, которым доверено заботиться о душах, должны получить достаточно дискреционной власти, чтобы приспособить канонические положения к своим особым потребностям.
6) Принцип субсидиарности. Этот принцип утверждает, что полномочия отдельных лиц и низших институций не должны быть зарезервированы за верховной властью. Согласно этому принципу, кодифицируя только то, что является общим для Восточных Католических Церквей, кодекс должен оставить “компетентной власти этих Церквей право регулировать с помощью партикулярного права все другие вопросы, не оговоренные за Святым Престолом”.
7) Обряды и партикулярные Церкви. “Понятие “обряда” следует пересмотреть и прийти к согласию относительно нового термина, который бы характеризовал различные Партикулярные Церкви Востока и Запада”. Принцип равенства этих Церквей (ОЕ 3) следует применить в кодексе, формулируя его юридические последствия.
8) Миряне. Вдохновленные фундаментальным равенством достоинства всех крещеных и с должным уважением относясь к иерархической структуре Церкви, миряне должны иметь свободу действий в вопросах, не зарезервированных за духовенством – в таких сферах, как Литургия, администрация, суды или проповедь Евангелия. Законная свобода выражения мнения и инициатива действий должны быть гарантированы.
9) Процессы. Желательно, чтобы одинаковые процедурные нормы применялись во всей Католической Церкви. Каждая Восточная Католическая Церковь должна иметь компетенцию устанавливать свои собственные суды, чтобы рассматривать дела во всех трех инстанциях вплоть до окончательного приговора, кроме тех случаев, которые оговорены за Святым Престолом. Юридическая защита прав должна применяться ко всем, так чтобы не осталось возможностей для произвольности в управлении Церковью.
10) Уголовные санкции. Все автоматические наказания (poenae latae sententiae) следует устранить из восточного кодекса. Больше следует делать акцент на каноническом предупреждении перед наложением наказания. Каноническое наказание следует рассматривать не только в контексте лишений; согласно восточной традиции, следует рассматривать также возможность обязательства к положительным действиям (покаянию).
2.3. Создание предварительных вариантов
Первой фазой проекта пересмотра было создание полного предварительного варианта кодекса. Вся работа была разделена на восемь частей и доверена девяти комитетам (которых называли coetus или исследовательские группы) под надзором и контролем Центрального комитета (coetus centralis). Эта фаза, которая, по сути, была наиболее трудной, началась в марте 1974 года с одобрения Руководства и закончилась собранием Центрального комитета в мае 1980 года. Были подготовлены дальнейшие проекты:
- иерархическая конституция Восточных Церквей;
- духовенство, миряне и объединения;
- монахи и другие члены институтов посвященной жизни;
- Божий культ и Таинства;
- Евангелизация, церковное обучение, принятие в католическую общину и экуменизм.
- Процессуальное право;
- Уголовные санкции;
- Общие нормы и имущественные вопросы.
Эти проекты были направлены в различные консультативные органы для комментариев. В каждом из них канонам предшествовали praenotanda, которые привлекали внимание к важным проблемам и главным новациям в тексте. Каждый проект был пересмотрен в свете комментариев, во время процедуры, которую PCCICOR называла denua recognitio (второй пересмотр).
Следующим шагом в формировании кодекса была подготовка полного предварительного варианта, который бы объединял все проекты и согласовал их, не только в контексте и терминологии, но и в структурной и логической последовательности. Эта задача также охватывала вопросы орфографии, языкового стиля, пунктуации, перекрестных ссылок и т. д. Именно эту скрупулезную и педантичную работу выполнил комитет, который назывался coetus de coordinatione, начавший свою работу в апреле 1984 года, хотя и denua recognitio проекта по иерархии не был к тому времени завершен. Таким образом, он сформировал Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis 1986 года. Этот комитет продолжал выполнять свою трудную задачу, пока текст не был представлен папе после пересмотра Schema II на пленарном заседании в 1988 году.
2.4. Заголовок, структура і зміст
Несколько слов нужно сказать о заголовке, структуре и содержании ССЕО. Заголовок или название имеет определенный вес. Название выполняет не только функцию идентификации, но и также может указывать на объем и содержание документа. Только этим аспектам было уделено внимание на протяжении всей дособорной фазы кодификации и вплоть до 1986 года, когда пересмотренный Проект был опубликован под названием Codex Iuris Canonici Orientalis (Кодекс Восточного Канонического Права). Однако с этим названием могут также ассоциироваться определенные идеи. Казалось, что это название намекает на то, что кодекс Латинской Церкви, Codex Iuris Canonici (CIC: Кодекс Канонического Права) является стандартным кодексом в Католической Церкви, a Codex Iuris Canonici Orientalis (CICO) является лишь приложением к нему, неким партикулярным или специальным законодательством. Это противоречило бы принципу равенства всех Церквей Запада и Востока, провозглашенному Собором, и, соответственно, равенства их кодексов. Поэтому ощущалась потребность другого названия, поэтому во время II пленарного заседания было, в конце концов, принято название Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium. Его компоненты можно охарактеризовать так: латинский термин codex имеет соответствие в греческом языке, owtctypa ???, что означает “организованный в определенном порядке”, например военное соединение; упорядоченный сборник текстов, а затем книга; конституция государства. В современном юридическом контексте кодекс означает полный и систематически упорядоченный свод законодательства. Термин canonum более уместен, чем lex или ius, для обозначения церковного характера законодательства и его корней в христианской традиции. Фраза Ecclesiarum Orientalium указывает на предмет, ограниченный законодательством, содержащимся в Кодексе, как это уточнено в к. 1. Поэтому нынешнее название существенно лучше по сравнению с тем, что было в проекте 1986 года (CICO), хотя оно все равно порождает представление, что все восточное требует уточнения “восточное”, в то время как латинское является стандартом и не требует уточнений в Католической Церкви.
В своей структуре ССЕО разделен на ЗО Титулов, упорядочение, которое напоминает древние восточные сборники канонов. И хотя могло бы быть полезно, особенно для дидактических целей и удобства ссылок, чтобы кодексы Западной и Восточной Церквей имели такую же структуру, чувствовалось, что восточная традиционная структура имела некоторые другие важные преимущества, не последним из которых был ее экуменический характер. Тем более, структура CIC не была полностью идеальной. Вслед за дособорным Редакционным Советом, PCCICOR также решила не делить кодекс на libri, как это было сделано в CIC-1917 и CIC, а на tituli. Далее tituli делятся на capita, articuli, под которыми группируются canones.
Относительно количества канонов, то ССЕО со своими 1546 канонами на 206 канонов короче CIC с его 1752 канонами. Эта краткость заслуживает еще большего внимания потому, что в ССЕО речь идет об институциях, характерных для Восточного Кодекса (Патриаршие, Верховные Архиепископские и Автономные Митрополичьи Церкви), а потому содержит примерно 200 канонов, которые не имеют аналогов в CIC или упомянуты только вскользь (например, обрядовые Церкви sui iuris; приписание и переход членов в Церквах sui iuris). Эта относительная краткость обусловлена преимущественно тем фактом, что ССЕО устанавливает только общее законодательство Восточных Католических Церквей, оставляя много деталей для партикулярного права и применяя принцип субсидиарности.
Может показаться довольно ироничным то, что ССЕО опубликован на латинском языке, который официально не использует ни одна Восточная Католическая Церковь и от которого все больше отказываются в западном мире. Появлялись предложения, чтобы наряду с латинским языком, Кодекс был опубликован на французском или английском. Однако техническая трудность этих предложений заключалась в том, что законодательство нуждается в едином, официальном, юридическом тексте, который служил бы авторитетной опорой. Переводы ССЕО уже появились на нескольких языках: английском, итальянском, арабском, украинском, хорватском, французском, малаялам, испанском, немецком, румынском, польском. Появились две разные версии на арабском языке (Египет и Ливан); опубликовано также второе англоязычное издание.
Примечание: Из-за близости между CIC и CCEO ни один из кодексов не может быть изучен, если не будет принят во внимание другой. Для того чтобы идентифицировать канонические соответствия в обоих кодексах и даже бывшем законодательстве (CIC-1917 и так называемый CICO), весьма полезными оказались конкордансы. Первый конкорданс был опубликован как приложение к Code of Canons of the Eastern Churches. Latin-English Edition (Washington, DC: Canon Law Society of America, 1992). Карл Джеродд Фюрст опубликовал Canones Synopse zum Codex Juris Canonici und Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Freiburg i. Br.: Herder, 1992). Иван Жужек, T. И. создал тематический индекс, Index Analyticus Codicis Canonum Ecclesiarum Orientalium (Kanonika, 2), PIO, 1992, который в переводе был приобщен к некоторым изданиям ССЕО, например, в новом английском переводе (ССЕС-2).
2.5. Утверждение кодекса (провозглашение)
17 октября 1986 года Schema кодекса была передана членам PCCICOR с просьбой предоставить отзыв до 30 апреля 1987 года. После того как текст был вновь пересмотрен в свете этих отзывов, 3-14 ноября 1988 года состоялось II пленарное заседание PCCICOR. После изменения названия Проекта, о котором мы уже упоминали, и с предложениями о некоторых других изменениях текст был представлен Римскому Архиерею 28 января 1989 года для провозглашения.
Папа изучал текст с помощью нескольких собственных экспертов и сделал несколько последних модификаций. Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium был провозглашен папой Иоанном Павлом II Апостольской конституцией Sacri Canones 18 октября 1990 года и приобрел силу закона 1 октября 1991 года. Относительно этого провозглашения были выдвинуты предложения, чтобы оно стало общим юридическим актом Римского Архиерея и глав всех Восточных Католических Церквей. Предложение было отклонено по следующим причинам:
- акт провозглашения может быть только актом Высшей Власти Церкви, то есть папы, поскольку Кодекс содержит материал, общий для всех Восточных Католических Церквей;
- предложение, чтобы главы разных Восточных Католических Церквей подписали декрет о провозглашении вместе с папой не соответствует самому ССЕО, согласно которому они не составляют законодательной власти своих собственных Церквей. Представляется, что эти аргументы не убедили всех заинтересованных иерархов, а также последующих комментаторов.
Учитывая экуменические измерения Кодекса, было выдвинуто предложение, что ССЕО следует провозгласить pro praesentibus conditionibus, как соборный декрет о Восточных Церквах (OE 30), то есть с условием, что ССЕО будет служить, пока не будет достигнуто полное единство с восточными некатолическими Церквами. Однако предложение не было принято, поскольку природа самого законодательства требует определенного постоянства и стабильности. Когда будет достигнуто единство между Восточными Церквами, появится потребность в новом законодательстве.
Во время торжественной презентации Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium перед VIII Всеобщим Синодом Епископов 25 октября 1990 года папа Иоанн Павел II отметил, что этот кодекс является составной частью Corpus iuris canonici Католической Церкви вместе с Codex Juris Canonici 1983 года и Апостольской конституцией Pastor Bonus, содержащей нормы о ведомствах Римской Курии для помощи Римскому Архиерею в его служении Вселенской Церкви. Имеет значение и то, что законодатель представил восточный кодекс Синода Епископов, состоящего преимущественно из латинских епископов, а не группы восточных католических иерархов. Это был символический жест, подчеркивающий тот факт, что точно так же, как традиция Восточных Церквей является частью общего наследия всей Церкви (ОЕ 1), Кодекс Канонов Восточных Церквей является кодексом Католической Церкви. И именно это, видимо, хотел подчеркнуть папа, когда назвал его одним из трех компонентов, составляющих единый Corpus iuris canonici.
С провозглашением ССЕО PCCICOR выполнила свою задачу и поэтому была ликвидирована. Важная задача по предоставлению достоверных толкований в вопросах права была доверена недавно созданному Папскому совету по толкованию законодательных актов, в компетенции которого толкование канонов обоих кодексов, а также других законов Церкви. Иван Жужек, S.J. был назначен его субсекретарем, должность, которую он занимал до своей отставки в 1994 году.
Сделав ССЕО компонентом Corpus Iuris Canonici Католической Церкви, законодатель папа Иоанн Павел II также указал на правильный способ его изучения. Представляя этот Кодекс Синоду Епископов 25 октября 1990 года, он сказал:
“Учитывая существование этого свода законов, невольно появляется предложение, чтобы факультеты канонического права способствовали надлежащему сравнительному исследованию обоих кодексов, даже если они, согласно своему уставу, основным предметом исследований имеют другой кодекс. Действительно, канонистика, полностью соответствующая тем научным степеням, которые присуждают эти факультеты, не может оставить без внимания такое исследование”.
Для такого сравнительного исследования особенно полезным стало издание ССЕО: Fontium Annotatione Auctus 1995 года.
PCLTInt, Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, fontium annotatione ayctus, LEV, 1995. Про подготовку этого издания и его источники смотри: Carl Gerold Fürst, “La preparatione deU’edizione di un ‘Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium fontium annotatione auctus”‘, y: lus in vita, 753-761 ; Johannes Madey, Quellen und Grundzüge des Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium: Ausgewählte Themen (MünstKomCIC, Beihefte 22), Essen 1999.
Итог: реакция на CCEO
Какой была реакция на CCEO? Этот вопрос выходит за пределы задачи историка кодификации восточного канонического права в Католической Церкви, и требует отдельного исследования для получения адекватного ответа. Однако беглый взгляд на общую ситуацию может стать хорошим итогом для предварительного обзора самой истории кодификации.
В целом можно сказать, что сами Восточные Католические Церкви, которые больше всего заинтересованы в этом кодексе, положительно восприняли ССЕО. Практической проверкой этой реакции является кодификация их партикулярного права, для того, чтобы оно, согласно требованиям кодекса, вступило в силу. Это не означает, что эта реакция была полностью лишена оговорок относительно определенных пунктов, таких как число обращений к Римскому Апостольскому Престолу или нераспространение юрисдикции патриархов и их синодов на диаспору, где проживает значительное количество их верующих. В то же время для тех, кто был активно вовлечен в кодификацию, Кодекс может быть почти “Торой”, которую надо с благодарностью и без малейшего протеста принимать как проявление милости верховного законодателя. Если говорить о реакции факультетов канонического права на сравнительные исследования на предложение самого папы, то появились некоторые положительные признаки их начала, по крайней мере, кое-где. А что касается православных, которым законодатель также “представил” новый кодекс, то пока не видно протянутой руки, готовой принять его, хотя идея общего кодекса для всех Православных Церквей обсуждалась в течение некоторого времени. Действительно, “православные никогда не рассматривали униатские “Церкви” как “мост” к единению двух Церквей [Православной и Католической], о чем утверждают униаты” (Sotirios Varnalidis, “Come e perché l’uniatismo puo bloccare il proseguimento del dialogo cattolico-ortodosso”, Nicolaus 19 (1992) 201-216, на c. 212.). Если говорить о реакции, которую вызвал ССЕО в православных кругах, то православные комментируют его следующим образом: “Однако пока что ССЕО 1990 года приветствовали вежливым молчанием. Православные не комментировали его подробно, не проявляли признаков внедрения каких-либо его элементов в свою жизнь. …Это молчание, это отсутствие реакции может также иметь смысл” (John H. Erickson, “The Code ofCanons ofthe Oriental Churches (1990): A Development Favouring Relations Between the Churches?” Jurist 57 (1997) 285-306, at p. 287; also in: La recepcion y la conumiôn entre las Iglesias, ed., HervéLegrand et al., Salamanca, Universidad Pontificia, 1997, c. 357-381.). В своем очень доброжелательном, но искреннем и взвешенном обзоре ССЕО, тот же автор, Джон Г. Эриксон, заметил, что ССЕО “демонстрирует много внутренних противоречий, непоследовательностей и парадоксов самого католицизма II Ватиканского Собора. Это особенно очевидно в его толковании церковных вопросов… в Титулах III-IX, посвященных иерархической структуре Церкви…”. В то же время он видит, что ССЕО призывает православных “выйти за пределы полемики и начать серьезные богословские размышления” по ключевым вопросам вроде “церковных объединений, таких как патриаршие Церкви” и духовности неправославных Церквей: “Будет ли наша политика и практика в отношении крещеных неправославных, согласных на полное единство с Православной Церковью, хотя бы соизмеримой с тем, о чем идет речь в XVII Титуле ССЕО в отношении крещеных некатоликов, согласных на полное единство с Католической Церковью?” Признавая неоспоримые истины ССЕО, такие как четкое и окончательное разграничение между обрядом и Церковью, довольно много восточных католических авторов также были критичны в отношении ССЕО, особенно тот, кто имеет больше всего публикаций о нем: “ССЕО ни в коем случае не может быть образцом для будущих поисков единения с христианским Востоком: церковная доктрина Кодекса более узкая, чем доктрина Собора”.
Появилось и такое утверждение: “Этот общий кодекс не противопоставлен церковному наследию любой Церкви sui iuris; скорее, в этом кодексе различные Восточные Церкви, которые живут и работают в многообразии социокультурных условий находят лучшее выражение и большую защиту для своевременной модернизации или обновления”. Диаметрально противоположным и радикальным является тезис исследователя, что никогда не существовало никакого канонического наследия, общего для всех Восточных Католических Церквей, и, более того, что ССЕО не уважает древних традиций, присущих им. Но также была действенная критика некоторых мирян, которые даже судились с местной иерархией в гражданском суде из-за того, что она приняла и внедрила в жизнь ССЕО, который, как они жалуются, не защищает их традиционные права в вопросе имущества церкви. Наконец, существует довольно распространенное критическое мнение, что ССЕО является всего-навсего еще одним примером, хотя и более совершенным и современным, латинизации Восточных Католических Церквей.
Интерес к ССЕО со стороны латинских канонистов был преимущественно связан с определенными областями, такими как уголовное право, которое многие признавали более гуманным и евангельским в Восточном Кодексе (например, отсутствие кар latae sententiae), чем в Латинском; синодальная система церковного управления, которая, если ее применить в Латинской Церкви, приведет к децентрализации и лучшему применению принципа субсидиарности, как это произошло в Патриарших Церквах; выборы епископов, а не назначение их папой, и т. д. др. Эти и другие преимущества ССЕО, такие как пневматологическое измерение канонического права, экуменизм, инкультурация, плюрализм (богословский, литургический, духовный и дисциплинарный), права на интеллектуальную собственность и т.д. склоняют, несмотря на некоторые менее удачные черты, к одобрительному отзыву о ССЕО.
VII – Concilium Nicaenum Secundum – Второй Никейский собор
Κανόνες
Concilium Quinisextum aut Concilium in Trullo
Пятый и Шестой Вселенские Соборы не выносили никаких определений, сосредоточившись на догматических нуждах Церкви и борьбе с ересями. Но ввиду того, что в Церкви усиливался упадок дисциплины и благочестия, было принято решение созвать дополнительный к предыдущим Собор, который бы унифицировал и дополнил церковные нормы. 1 сентября 691 года, по приглашению императора Юстиниана II в дворцовой Трулльской палате собрались 227 епископов. Собор заседал ровно год, до 31 августа 692 года, и посвятил свои деяния исключительно церковно-дисциплинарным вопросам.
Принятые Трулльским Собором 102 канона иногда называют в Православной церкви решениями Шестого Вселенского Собора, так как он сам себя рассматривал как его продолжение.
Κανόνες
Белякова Елена Владимировна
Юбилей Елены Владимировны Беляковой
В 2015 г. отметила юбилейный День рождения кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории РАН Елена Владимировна Белякова.
Е. В. Белякова родилась 29 декабря 1955 г. в поселке Пеледуй Якутской АССР. Ее родители – Нина Петровна Коробцева и Владимир Микулович Долгий – закончили в 1953 г. Философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Долгое время они работали на Севере. В конце 1960-х гг. семья вернулась в Москву, где Е. В. Белякова поступила в 1972 г. на Исторический факультет МГУ. Она специализировалась на кафедре источниковедения и историографии, в 1977 г. под руководством А. И. Рогова защитила дипломную работу на тему «Источники по истории автокефалии Русской Церкви». С 1977 г. она работала старшим консультантом Московского городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, с 1986 г. – в Государственной публичной исторической библиотеке. В 1997 г. Елена Владимировна начала работать в Центре истории религии и церкви Института российской истории РАН и в 1998 г. под руководством члена-корреспондента РАН Я. Н. Щапова защитила кандидатскую диссертацию «Мазуринская редакция Кормчей и ее историко-культурное значение на Руси».
Исторические сюжеты, которые разрабатывала Е. В. Белякова, касались ключевых моментов истории Русской Церкви: учреждение московской автокефалии, а затем патриаршества в Москве, церковный раскол XVII в., Поместный собор 1917–1918 гг. В ходе изучения этих сюжетов ею были введены в научный оборот множество новых источников, а сами события рассматривались сквозь призму канонического права. Преподавание истории Церкви с 1990 г. стало причиной обращения к необходимости концептуального осмысления истории Церкви как института и вытекающей отсюда темы ересей и расколов.
Елена Владимировна Белякова относится к числу редких ученых, которые не боятся браться за изучение таких тем, на которые мало кто отваживается посягнуть, полагая их либо слишком сложными, либо не сулящими скорой отдачи, не приносящими ярких побед исследователю. Именно эти «малоинтересные» сюжеты – древнерусское церковное право, Кормчие книги, Скитский устав – приобретают неожиданное звучание под пером Елены Владимировны. Необычная и нехарактерная для отечественного ученого тематика исследований на деле вполне закономерна. Е. В. Белякова – последовательная ученица Я. Н. Щапова – в большей степени тяготеет к дореволюционной отечественной школе, нежели к советской.
Требовательная к себе больше, чем к другим, Елена Владимировна отказывается публиковать результаты своих исследований, пока, по ее выражению, еще остается, что «копать». Новые находки, за которыми часто стоит несколько лет кропотливого труда, обычно излагаются в небольших по объему статьях, которые не теряют своей актуальности год за годом и ложатся в основу дальнейших исследований коллег. Такова работа Е. В. Беляковой об «особых» редакциях Кормчих книг, имевших тематическое расположение церковных правил. Небольшая статья исследовательницы положила начало изучению целого пласта канонических сочинений, шедших вразрез с преимущественно принятыми в славянских странах «традиционными» каноническими книгами, излагавшими церковные правила в хронологическом порядке церковных соборов. Опровергнув миф о некоей «еретической» Кормчей, якобы составленной Иваном Волком Курицыным, сожженным на костре во времена Ивана III, Е. В. Белякова открыла одну из самых ранних славянских «особых» редакций Кормчей – Мазуринскую. Собрав и сопоставив списки, выяснив время и обстоятельства этой канонической книги, она не ограничилась ее исследованием (ставшим позднее диссертационным), но взяла на себя труд по подготовке критического издания этой книги, которое и было осуществлено под руководством Я. Н. Щапова. Именно такой подход – подготовка издания параллельно с исследованием памятника – наиболее характерен для Елены Владимировны.
Еще одно раннее, скромное по объему, но остающееся опорным в современной историографии исследование Е. В. Беляковой посвящено «Сказанию о Болгарской и Сербской патриархиях». Автору удалось не только убедительно датировать это сочинение серединой XV в., но и показать его ключевое значение для понимания хода установления автокефалии Русской Церкви. В небольшой статье затронуто, как часто бывает в работах Елены Владимировны, множество важнейших для истории Русской Церкви сюжетов: взаимоотношение Москвы и Константинополя, взгляды на самостоятельность дочерней Церкви, наконец – новое осмысление вопроса об автокефалии, пришедшее спустя 2 века, во времена патриархов Филарета и Никона.
Так, из истории XV столетия протянулась ниточка к истории XVII в., к временам подготовки печатного издания Кормчей книги. Этот сюжет принес множество удивительных находок. Прежде всего, Е. В. Беляковой пришлось развеять одно из ключевых заблуждений, связанных с историей издания печатной Кормчей – представление о первоначальном издании Кормчей в 1650 г., при Патриархе Иосифе. Это заблуждение, прочно вошедшее в труды отечественных исследователей, как выяснила Е. В. Белякова, было безосновательным. В ключевых работах на эту тему, опубликованных в «Вестнике церковной истории», исследовательница показала, что издание Кормчей, пришедшееся на смену патриархов, растянулось почти на 4 года, и хотя отдельные печатные экземпляры отражают промежуточные этапы подготовки издания, все же это был единый процесс, завершившийся выходом книги в 1653 г.
Круг интересов Е. В. Беляковой Кормчими книгами отнюдь не ограничивается. Изучение переводных памятников, пришедших на Русь через южнославянские страны, всегда вызывает наибольшую трудность, поскольку предполагает свободное владение не только древнерусской рукописной традицией, но и широчайшее знакомство с сербскими и болгарскими (и другими славянскими) рукописями, не говоря уже о необходимости поиска греческих источников текстов. Подобные сложности не являются препятствием для Елены Владимировны, которая расширила круг доступных нам переводных памятников. Ей мы обязаны доскональным исследованием и публикацией текста Скитского устава, оказавшего немалое влияние на древнерусскую монашескую традицию. В подготовленной вместе с Я. Н. Щаповым работе Е. В. Белякова дала классификацию и показала особенности византийских императорских новелл, игравших на Руси роль образца имперского законодательства. В исследованиях Елены Владимировны получил характеристику как один из наиболее распространенных в славянской книжности епитимийных сборников, называемый «Зонар»; так и достаточно редкое сочинение – «Правила с толкованиями Иоанна Зонары». Исследовательница подробно описала старшие славянские списки этих памятников, названных по имени историка и богослова Иоанна Зонары, но совершенно разных по составу и происхождению.
Е. В. Белякова часто обращалась к судьбе науки изучения церковного права в России. В книге «Церковный суд и проблемы церковной жизни», вышедшей в серии «Церковные реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви начала XX века. Поместный Собор. 1917–1918 гг. и предсоборный период» рассмотрена история канонистики в Российской империи и комплекс вопросов, связанных с церковными канонами, обсуждавшимися в начале ХХ в. российским церковным сообществом. Исследовательница изучила архивные фонды и описала в монографии историю деятельности Отделов о церковном суде и о церковной дисциплине Поместного Собора.
Другой принципиальной темой, разрабатываемой Е. В. Беляковой, является проблема правового положения женщины в православной Церкви и семье. Интерес к этой проблематике имел не только академический характер: многолетний личный опыт церковной жизни исследовательницы, матери шестерых детей, подтолкнул к необходимости артикуляции проблем, стоящих перед современной верующей женщиной и изучения исторического опыта осмысления гендерной тематики в Церкви. Правовые условия положения женщины рассматривались ею как на конкретных примерах (например, об отношении восточных монахов к женщинам, или положении женщины в старообрядчестве), так и в глобальной исторической ретроспективе. Итогом исследований «женских сюжетов» стал выход монографии «Женщина в православии: церковное право и российская практика».
Еще одной важной и актуальной темой, к размышлению над которой исследовательница возвращается на протяжении многих лет, стало осмысление отношения Церкви к войне и убийству. Е. В. Белякова написала несколько принципиальных статей об отношении к войне и убийству в византийских канонических памятниках и рецепции этого отношения у восточных славян.
Елена Владимировна стала одним из разработчиков курсов по истории Русской Церкви, которые она начала читать в различных московских учебных заведениях в период перестройки, преподавала много лет как в конфессиональных, так и в светских учебных заведениях: в Библейско-Богословском институте Андрея Первозванного, вСвято-Филаретовском православно-христианском институте, в МГУ имени М. В. Ломоносова.
В 2007 г. в МГУ имени М. В. Ломоносова была создана первая и единственная в современных светских университетах России кафедра истории Церкви. Е. В. Белякова с самого начала вошла в ее коллектив и сыграла очень важную роль в ее становлении, в налаживании связей с другими научными центрами. Она разработала и читала авторские курсы: «История Русской Церкви» для всех студентов исторического факультета МГУ, а для тех, кто специализируется на кафедре, –курсы «Источниковедение истории Церкви», «Историография истории Церкви», «История церковного права»; принимала участие в написании учебного пособия «Общая история Церкви», готовила учебное пособие «Обзор источников по истории Церкви в России».
В 2009 г. она стала инициатором организации и ведущим межвузовского семинара «История Церкви: источники, институты, методология, историки». В рамках его заседаний на кафедру приглашались с докладами многие ведущие специалисты из других российских и зарубежных научных центров. Е. В. Белякова является членом редколлегии журнала «Древнее право. Ius antiquum» и ежегодника «Религии мира».
Исключительное бескорыстие, доброжелательность, скромность и широкий кругозор делают Е. В. Белякову открытой для обсуждения самых разнообразных тем, – обсуждений, во время которых рождаются новые идеи. Но Елена Владимировна никогда не торопится с тем, чтобы облечь высказанные ею же мысли в печатную форму, пока все, до последней строчки, не будет тщательно проверено; пока не будут найдены все источники, атрибутированы все тексты. Именно эта педантичность и надежность обеспечивают долгую жизнь ее работам.
Основные труды Е. В. Беляковой по церковной истории
1. К истории учреждения автокефалии Русской Церкви // Россия на путях централизации. М., 1982. С.152–156.
2. Источники Кормчей Ивана Волка Курицына // Древнерусская литература. Источниковедение. Л., 1984. С. 75–83.
3. Устав пустыни Нила Сорского // Древнерусская литература. Источниковедение. Л., 1988. С. 96–106.
4. «Церковные новины» и учреждение патриаршества в России (К вопросу о значении учреждения патриаршества в XVI в.) // 400-летие учреждения патриаршества в России. От Рима к третьему Риму. Roma, 1991. С. 81–96.
5. Об одном источнике Жития митрополита Ионы // Архив русской истории. 1992. № 2. С. 288–302.
6. Учреждение автокефалии Русской Церкви в политической мысли XV–XVI вв. // Римско-Константинопольское наследие на Руси: идея власти и политическая практика. М., 1995. С. 288–302.
7. Стефан, епископ Пермский // Страницы (Богословие, культура, образование). 1996. № 2. С. 75–86.
8. Сборники церковных канонов на Руси // Страницы (Богословие, культура, образование). 1997. №. 2. С. 265–272.
9. Скитский устав и его значение в истории русского монашества // Церковь в истории России. Сб. 1. М., 1997. С. 21–29.
10. Мазуринская Кормчая – памятник межславянских культурных связей XIV–XVI вв. // Восточная Европа в древности и средневековье: X чтения к 80-летию В. Т. Пашуто (тезисы). М., 1998. С. 10–12.
11. Традиции святого Саввы Сербского на Руси // Свети Сава у Српскоj историjи и традициjи. Београд, 1998. С. 359–368 (в соавторстве с Я. Н. Щаповым).
12. Мазуринская редакция Кормчей и ее историко-культурное значение на Руси. Дис. … канд. ист. наук. М., 1998.
13. Путь к Стоглаву: особенности русской канонической традиции на примере Мазуринской Кормчей // Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы IV научно-практической конференции. М., 1998. С. 209–210.
14. Особые редакции сборника XIV титулов в византийско-славянской традиции // Церковь в истории России. Сб. 3. М., 1999. С. 21–43.
15. Памятник канонического права – Мазуринская Кормчая как новый источник по истории межславянских культурных связей // Славяне и их соседи: Межславянские взаимоотношения и связи. Средние века – раннее Новое время. М., 1999. С. 21–24.
16. Обоснование автокефалии на страницах русских Кормчих // Церковь в истории России. Сб. 4. М., 2000. С. 139–161.
17. Судьба сборников церковных канонов на Руси // Исторический вестник. 2000. № 1(5). С. 33–39.
18. Кормчие книги // Энциклопедия. Отечественная история. История России с древнейших времен до 1917 г. Т. 3. М., 2000. С. 44–45 (в соавторстве с Д. Баловневым).
19. Мерило Праведное // Там же. С. 557–558 (в соавторстве с Д. Баловневым).
20. Адриан, Патриарх Московский // Православная энциклопедия. Т. 1. М., 2000. С. 312–313.
21. Акиндин, инок // Там же. С. 394–395.
22. Александро-Невская лавра // Там же. С. 613–617.
23. К проблеме канонического сознания// Материалы богословской конференции «Православное богословие на пороге третьего тысячелетия». М., 2000.
24. Первый русский патриарх Иов // Истина и жизнь. 2000. № 8.
25. Проблема традиции и новаторства в деятельности архиепископа Геннадия Новгородского // Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира. К 500-летию Геннадиевской Библии: Сборник материалов международной конференции. М., 2000. С. 25–30.
26. Брак и развод в России XIX в. // История (еженедельное приложение к газете «Первое сентября»). 2001. № 15(16–22 апреля). С. 1–7.
27. Обсуждение вопроса о диакониссах на Поместном Соборе 1917–1918 гг. // Церковно-исторический вестник. 2001. № 8. С. 139–161 (в соавторстве с Н. А. Беляковой).
28. Стоглав и его место в русской канонической традиции // Отечественная история. 2001. № 6. С. 90–96.
29. Мазуринская Кормчая – памятник межславянских культурных связей XIV-XVI вв./ М., 2002 (в соавторстве с О. А. Князевской, И. П. Старостиной, Е. В. Соколовой, Я. Н. Щаповым).
30. Диакониссы в Русской Православной Церкви // История (еженедельное приложение к газете «Первое сентября»). 2002. № 9(1–7 марта). С. 1–5 (в соавторстве с Н. А. Беляковой).
31. Русская рукописная редакция Скитского устава // Монашество и монастыри в России. XI–XX века: Исторические очерки. М., 2002. С. 150–162.
32. Попытки учреждения чина диаконисс в России во второй половине XIX – начале XX в. // Страницы. 2002. № 7(1). С. 56–87 (в соавторстве с Н. А. Беляковой).
33. Бабьи стоны // Родина. 2002. № 7. С. 63–67.
34. Церковный суд на Руси в XV-XVI вв. // Исторический вестник. 2002. № 1(16). С. 95–102.
35. Проблема церковного суда в России в пореформенное время и попытка ее решения на Поместном Соборе 1917–1918 гг. // Там же. С. 152–161.
36. Славянская редакция Скитского устава // Древняя Русь. Вопросы медиевистики . 2002. № 4(11). С. 28–36.
37. Скитский устав по ркп. РНБ. Погод. 876. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2003. № 1(12). С. 63–95.
38. Новые сведения о скитском уставе в рукописной традиции XIV–XIX вв.// Вестник РГНФ. 2003. № 1(30). С. 5–14.
39. Опыт изучения и издания новых памятников славянской письменности // Литература, культура и фольклор славянских народов: Материалы конференции (Москва, июнь 2002). К XIII международному съезду славистов. М., 2002. С. 26–34.
40. Я. Н. Щапов – археограф // Археографический ежегодник за 2001 год. М., 2002. С. 260–268.
41. Отношение к войне и убийству в канонических памятниках XIV–XVI вв. // Миротворчество в России: Церковь, политика, мыслители. От раннего средневековья до рубежа XIX–XX столетий. М., 2003. С. 39–62.
42. Защита церковных реформ митрополитом Сергием (Страгородским) // Личность в церкви и обществе: Материалы международной богословской конференции. М., 2003. С. 227–239.
43. Мазуринская редакция Кормчей и ее место в византийско-славянской канонической традиции // Россия и Христианский Восток. Вып. 2–3. М., 2004. С. 19–35.
44. Церковный суд и проблемы церковной жизни / Церковные реформы. Дискуссии в Православной Российской Церкви начала XX века. Поместный Собор. 1917–1918 гг. и предсоборный период. М., 2004.
45. Афонские традиции в русских скитах XVII в. // Патриарх Никон и его время / Труды Государственного исторического музея. Вып. 139. М., 2004. С. 341–347.
46. Женщина в церкви: возможен ли диалог? // Вера–диалог–общение: проблемы диалога в Церкви: Материалы международной научно-богословской конференции (Москва, 24–26 сентября 2003 г.). М., 2004. С. 79–92.
47. Значение римского правового наследия для народов Евразии // Евразия. Этнокультурное взаимодействие и исторические судьбы: Тезисы докладов научной конференции. Москва, 16–19 ноября 2004 г. М., 2004. С. 218–221.
48. Женщина в церковном праве и попытка реформы на Поместном соборе 1917–1918 годов // Религии мира. История и современность. М., 2004. С. 197–210.
49. Церковный суд: нерешенные проблемы // НГ-религии. 2005. № 1(154), 19 января. С. 5.
50. Кормчие: проблема источниковедческого изучения // Восточная Европа в древности и средневековье. Вып. 17. Ч. 2. М., 2005. С. 175–178.
51. Бракоразводные дела в архиве Святейшего Синода // Архивы Русской Православной Церкви: пути из прошлого в настоящее (Труды Историко-архивного института). Т. 36. М., 2005. С. 328–336.
52. Новеллы Юстиниана и русский бракоразводный процесс // Древнее право. 2005. № 14. С. 144–153.
53. Значение решений Поместного Собора 1917–1918 гг. для церковной жизни Урала // История православия на Урале: Материалы церковно-исторической конференции, посвященной 120-летию Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, 2005. С. 26–29.
54. Женщина в старообрядчестве // Церковь в истории России. Сб. 6. М., 2005. С. 35–66.
55. Новеллы императора Юстиниана в русской письменной традиции (К истории рецепции римского права в России). М., 2005 (в соавторстве с Я. Н. Щаповым)
56. Великая княгиня Елизавета Федоровна и попытки учреждения чина диаконисс в России // Отблеск Нетварного Света: Материалы VI юбилейных Свято-Елисаветинских чтений, посвященных 140-й годовщине со дня рождения великой княгини преподобномученицы Елизаветы Федоровны. М., 2005. С. 54–63.
57. К вопросу о первом издании Кормчей Книги // Вестник церковной истории. М., 2006. № 1. С. 131–150.
58. Il testo giuridico: stili e influenze // Lo spazio letterario del medioevo. V.III. Le culture slave. Roma, 2006. P. 475–497 (в соавторствес Я. Н. Щаповым).
59. Житие митрополита Ионы как источник по истории канонизации святых в Русской Церкви // Проблема святых и святости в истории России: Материалы XX международного семинара исторических исследований «От Рима к Третьему Риму». М., 2006. С. 134–142 (в соавторстве с Л. П. Найденовой).
60. Пути распространения римского права в средневековой Руси // Римское частное и публичное право: многовековый опыт развития европейского права: Материалы IV международной конференции Москва–Иваново–Суздаль, 25–30 июня 2006. Иваново, 2006. С. 173–178.
61. Место женщины в пространстве православного храма Русского Севера // Сакральная география и этнокультурные ландшафты народов Европейского севера / Поморские чтения по семиотике культуры. Архангельск, 2006. С. 273–280.
62. Круг источников по истории Печатной Кормчей // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 3(29). С. 15–16.
63. Собрание новелл Юстиниана в 87 главах (Collectio 87 capitulorum) в греческой и славянской письменной традиции // Пятые чтения памяти профессора Николая Федоровича Каптерева: Материалы. М., 2007. С. 21–30.
64. Революция 1917–1918 гг. и проблема православной семьи // XVII ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского университета: Материалы. Т. 1. М., 2007. С. 205–212.
65. Из истории издания Кормчей книги // Человек в пространстве и времени культуры. Барнаул, 2008. С. 501–510.
66. Памятники канонического права в истории славянских церквей на пороге Нового времени // Церковь в общественной жизни славянских народов в эпоху Средневековья и раннего Нового времени («Славяне и их соседи»). М., 2008. С. 14–21.
67. Источники Печатной Кормчей // Вестник церковной истории. 2008. № 3(11). С. 99–115.
68. О составе Хлудовского Номоканона (К истории сборника «Зинар») // Старобългарска литература. Кн. 37–38 / Българска Академия на Науките. Институт за литература. София, 2007. С. 114–131.
69. Поиск моделей взаимоотношения Церкви и государства накануне и в процессе революции 1917 г // 1917-й: Церковь и судьбы России. К 90-летию Поместного Собора и избрания Патриарха Тихона. М., 2008. С. 64–74.
70. Канонические основы Устава Сурожской епархии // Духовное наследие митрополита Антония Сурожского: Материалы первой международной конференции. М., 2008. С. 82–97.
71. Неформализованные автономные виды церковной деятельности и их значение для русской деревни // Сельская Россия: прошлое и настоящее (Материалы XI Всероссийской научно-практической конференции) М., 2008. С. 162–167 (в соавторстве с Н. А. Беляковой).
72. Первые опыты русской церковной историографии: К изучению Известия о поставлении Патриарха Филарета и Сказания об учреждении патриаршества // Факты и знаки: Исследования по семиотике истории. Вып. 1. М., 2008. С. 208–224.
73. Евфимий, еп[ископ] Суздальский и Тарусский // Православная энциклопедия. Т. 17. М., 2008. С. 406–408 (в соавторстве с А. В. Кузьминым).
74. Елена [Флавия Юлия Елена Августа] // Православная энциклопедия. Т. 18. М., 2008. C. 293–295 (в соавторстве c А. А. Королевым, Н. В. Квливидзе и др.).
75. Российская имперская политика в отношении непризнанных законодательством церквей // Пространственно-временные перекрестки культуры. Барнаул; Рубцовск, 2009. С. 259–272 (в соавторстве с Н. А. Беляковой).
76. О неисследованном переводе правил с толкованиями Иоанна Зонары // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2009. № 3(37). С. 13–14.
77. «Кормчая патриарха Иосифа»: новые данные // Старообрядчество: история и современность. Материалы международной научно-практической конференции. СПб., 2009. С. 43–50.
78. Дискуссии о правовом статусе женщин в православии в начале XX века // Гендер и религия: Сборник статей / ИЭА РАН. М., 2009. С. 90–111.
79. Святая преподобномученица Елизавета Федоровна и вопрос о пути русского монашества // Церковь и время (научно-богословский и церковно-общественный журнал). 2009. № 3(48). С. 220–234 (в соавторстве с Н. А. Беляковой).
80. Старообрядческий вопрос на Поместном Соборе 1917–1918 гг. // Старообрядчество в России (XVII–XX века). Вып. 4. М., 2010. С. 145–158.
81. О сербском переводе правил с толкованиями Иоанна Зонары // Црквене студиjе (Годишњак Центра за црквене студиje). Бр. 6. Ниш, 2010. С. 235–242.
82. Der Begriff «symphonia» in der russischen Geschichte // Ost-West Europaeischen perspektiven. Heft 1. (Renovabis); Freising, 2010. S. 16–22.
83. «По какому праву?» (О некоторых особенностях правовых систем Московской Руси) // Россика/Русистика/Россиеведение. Кн. 1. Язык/История/Культура / Отв. ред. Е. И. Пивовар. М., 2010. С. 303–311.
84. Развод и повторные браки христиан: богословские аспекты // Православное учение о церковных таинствах. Т. 3. М., 2009. C. 136–150.
85. Иловицкая Кормчая // Православная энциклопедия. Т. 22. М., 2009. С. 323–324 (в соавторстве с А. А. Туриловым).
86. О происхождении Ярославского списка Кормчей книги: Состав новгородско-софийской редакции Кормчих книг // Ярославский список Правды Русской: Законодательство Ярослава Мудрого / Сост. Н. А. Грязнова, Д. К. Морозов. Ярославль; Рыбинск, 2010. С. 23–50.
87. Тема учреждения патриаршества в русских Кормчих // История: дар и долг: Юбилейный сборник в честь А. В. Назаренко. М.; СПб., 2010. С. 25–34.
88. Памятники византийского законодательства в составе Печатной Кормчей // Древнее право. Ivs antiqvvm. 2010/2008. № 2(22). С. 118–124.
89. Кормчие как источник по образованию духовенства и монашества Русской Церкви в XVI // Религиозное образование в России и Европе в XVI веке. СПб., 2010. С. 142–154.
90. К вопросу о судьбе Собрания Новелл Юстиниана в 93 главах в составе славянских Кормчих // Russica Romana. Vol. 17. 2010. Pisa–Roma, 2011. P. 33–42.
91. Византийское законодательство о еретиках в русской правовой традиции (еретики, мученики, иноверные) // Религиозная свобода от Рима к Константинополю и Москве: От Рима к Третьему Риму. М., 2011. С. 4–32.
92. Женщина в православии: церковное право и российская практика. М., 2011 (в соавторстве с Н. А. Беляковой, Е. Б. Емченко).
93. Скит: от византийского монашества к русской культуре // Язык, книга и традиционная культура позднего русского средневековья в жизни своего времени, в науке, музейной и библиотечной работе XXI в. (Мир старообрядчества. Вып. 8). М., 2011. С. 44–54.
94. «Латгальские листы» – древнейший список Чудовской редакции Кормчей // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2011. № 3(43). С. 17–18 (в соавторстве с Н. Морозовой).
95. Издание Кормчей Книги и проблема смены культурной ориентации // Российская история. 2011. № 4. С. 103–113.
96. La vita dello «skit» nella Rus. // Comunione e Solitudine. Atti del XVIII Convegno ecumenico internationale di spiritualita ortodossa. Bose, 2011. Р. 179–198.
97. Переводы Евфимия Чудовского и кризис русской канонической традиции в XVII в. // Современные проблемы изучения истории Церкви: Международная научная конференция (тезисы докладов). М., 2011. С. 22–25.
98. Кормчая как сборник // Вестник Новосибирского государственного университета. Т. 10. Вып. 8: Филология. Новосибирск, 2011. С. 5–14.
99. О задачах составления сводного каталога канонических памятников // Современные проблемы археографии. СПб., 2011. С. 50–54.
100. Я. Н. Щапов и начало нового этапа изучения истории Церкви // Исторический журнал. Научные исследования. 2011 № 5(5). С. 7–15 (в соавторстве с О. Ю. Васильевой).
101. Рукописные Кормчие и проблема составления сводного каталога славянских канонических и юридических памятников // Проблемы дипломатики, кодикологии и актовой археографии: Материалы XXIV международной научной конференции. М., 2012. С. 185–187.
102. Славянский канонический сборник «Зинар» о войне и воинах // Образ войны в общественной мысли славянских народов эпохи Средневековья и раннего Нового времени. М., 2012. С. 15–19.
103. «Скитский устав» и памятники канонического права в Соловецкой книжности // Первая международная научная конференция «Духовное и историко-культурное наследие Соловецкого монастыря»: Сборник научных статей и докладов. Соловки, 2011. C. 83–88.
104. Издание Печатной Кормчей и византизм в русской государственности // Вестник Московского университета. Серия 8. История. 2012. № 5. С. 34–50.
105. Росiйска iмперська полiтика щодо невизнаних законодавством Церков // Ковчег. Наукавий збiрник iз церковноi исторii. Видавництво Украiнського католицького унiверситету. Львiв, 2012. № 6. С. 9–27 (в соавторстве с Н. А. Беляковой).
106. «Той же Василий Иоанну» или Сколько существует славянских редакций 133-й новеллы Юстиниана? // Религии мира. История и современность. 2006–2010. М.; СПб., 2012. С. 76–89.
107. Особенности экземпляров московского издания Кормчей 1653 г. // Федоровские чтения. 2011. М., 2012. С. 44–53.
108. «Симфония властей» или «свободная церковь в правовом государстве»: русские дискуссии начала XX века // История. Электронный научно-образовательный журнал. Вып. № 7(23). М., 2013. С. 6–18.
109. Православие: религия или идеология? // Человек в богословии митрополита Антония Сурожского: Доклады Второй международной конференции 11–13 сентября 2009 г., Москва. М., 2013. С. 142–152.
110. Обзор истории изучения Печатной Кормчей // Русский исторический сборник № 6. М., 2013. С. 72–96.
111. Памятники канонического права в традиции староверов Поморья и Гребенщиковской общины // Latvijas vecticībnieki: identitātes saglabāšanasvēsturiskā pieredze (Латвийские староверы: исторический опыт сохранения идентичности) Rakstu krājums Rīga, 2014. С. 64–75.
112. Сказание об именах из Кормчей Кирилло-Белозерской редакции // Slovene-Словѣне: International Journal of Slavic Studies. 2013. Т. 2. № 2. С. 184–198.
113. Женское сопротивление злу (утраченные образы) // Равнина русская. Опыт духовного сопротивления: Материалы международной научно-практической конференции. М., 2014. С. 57–65.
114. Влияние византийских канонических и учительных текстов на славяно-русскую литературную традицию // Традиции и инновации в истории и культуре: программа фундаментальных исследований Президиума Российской академии наук. М., 2015. С. 456–466 (в соавторстве с Г. С. Баранковой).
115. Кормчая книга // Православная энциклопедия. Т. 38. М., 2015. С. 52–58 (в соавторстве с А. А. Туриловым).
116. Поучения новопоставленному священнику в восточнославянской традиции // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2015. № 3(61). С. 14–15.
117. Скитское житие на Руси // Соловецкое море: Историко-литературный альманах. Вып. 14. Архангельск; М., 2015. С. 38–45.
118. «Как мать вам заявляю и как женщина»: к вопросу о причинах кризиса миротворческого и антимилитаристского движения на постсоветском пространстве // Женщины и женское движение за мир без войн и военных конфликтов: Материалы VIII международной научной конференции Российской ассоциации исследователей женской истории и Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН. Т. 3. М.; Старый Оскол, 2015. С. 148–153.